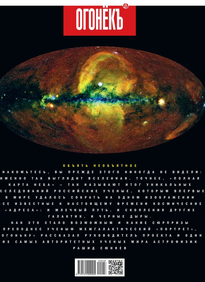Спору Запада и России на внешнем контуре и дискуссиям западников и славянофилов в самом Отечестве очень много лет. И все эти годы было почти как в песне: «Мы выбираем, нас выбирают», только с приставкой «не» — мы не понимаем, нас не понимают… Так и жили с этим вечным, как казалось, сюжетом. Разве что накал страстей менялся вместе с эпохами, и интенсивность выяснения отношений была разной в разные времена. Но вот пришел новый век с переменами настолько стремительными, что от привычного и даже уютного в чем-то взаимного препирательства с «западными партнерами» не осталось и следа — вместо традиционного многоточия в отношениях возникает точка, а разговор о «конце истории» выглядит уже не схоластикой, а констатацией неизбежной перспективы. Что мы потеряли и что приобрели при этом? Историк и политолог дают разные ответы.
Диалогу России с Европой уже несколько сотен лет. Готовящийся к изданию четырехтомник историка Андрея Тесли «Русские беседы» рассказывает об изменчивости этого диалога и заставляет по-новому взглянуть на старый спор славянофилов и западников. «Огонек» поговорил с автором о «европейском векторе» и об «особом пути» России.
— Вы не раз упоминали, что современный спор России и Запада — совсем не то же, что спор России и Запада XIX века. Что всерьез изменилось?
— В XIX веке мы вели разговоры с большой Европой изнутри нее же, но что еще существеннее: в оптике той эпохи Европа и есть все человечество. Остальные народы, которые не входят в эту ойкумену, считаются либо неисторическими вовсе (существовал такой устойчивый термин), либо теми, кто выпал во внеисторическое существование. Поэтому, когда Погодин говорит о противопоставлении Востока и Запада, речь идет о востоке и западе Европы. Славянофилы и западники существуют в общеисторической рамке эпохи романтизма, когда всякая история народа интересна ровно настолько, насколько она совмещается с историей всемирной (то есть историей Европы). Быть народом историческим означает иметь свой голос во всемирной истории.
— Таким образом, славянофилы, отделяясь от европейского Запада, все равно претендуют на место в общеевропейской истории?
— Да, национальная история славянофилов — это не история про особость саму по себе, не про то, что мы другие и не трогайте нас больше. Это не про отделение.
Притязания славянофилов гораздо больше: мы другие, потому что призваны сказать свое новое слово в мировой истории, причем такое, которое станет общим (французским, английским, немецким — общеевропейским) наследием.
Если всерьез относиться к славянофильским идеям, то они имеют эсхатологическую перспективу: именно Россия православна, именно она может выразить дух Европы. История творится через разные исторические народы на своих разных этапах, и вот в финале она обретает истину через русских. С течением времени этот строй рассуждений меняется, романтизм отходит на второй план, и возникает мысль о конкуренции исторических типов между собой, но это уже, в строгом смысле, не спор славянофилов и западников.
— Как Запад реагировал на такие притязания Востока, то есть России?
— Почти сразу речь шла о вполне заметной негативной реакции: с 1840-х годов западная публицистика пишет об угрозе панславизма, то есть опасного усиления славянского мира. Славянофилов слышали. Тем более что здесь с ними сближался Герцен, думающий о таком призвании России, которое имело бы универсальную рамку: русский социализм заинтересован не только в развитии русского крестьянского хозяйства, а в том, чтобы через русскую крестьянскую общину явилось новое начало, принцип мировой истории. Он не телеологичен, то есть допускает разные варианты развития событий и «конца истории», но сама возможность такого исхода Герцену важна. Поэтому его идеи большим числом интеллектуалов были расшифрованы как «панславистские», а сам Герцен имел репутацию скрытого проводника российских амбиций. С другой стороны, на Западе были и те, кто ему симпатизировал: скажем, свое видение Герцен изложил в публичном письме знаменитому французскому историку Жюлю Мишле, и для последнего переписка с русским мыслителем будет важным сюжетом (не центральным, но важным). Подытоживая: в XIX веке западноевропейский ответ на русскую мысль являлся чаще всего фиксацией ничем не подтвержденных амбиций. За нашими амбициями видели либо силовую, имперскую претензию, либо утопические, необоснованные фантазии оригиналов.
— Звучит обидно: и тогда нас не принимали…
— Ну почему же? Это был нормальный спор с попыткой поставить под сомнение позицию оппонента. Главное, что это был спор между своими. И уже в конце XIX века Россия начинает одерживать интеллектуальные победы: в 1880-е годы произойдет первое европейское признание Достоевского, который становится, например, значимой частью французского литературного пространства. Потом возникает Толстой и толстовство: западная элита уже с интересом рассуждает об особой русской душе, о русском взгляде на мир и так далее. Не случайно после 1917 года столько европейских интеллектуалов предприняли свои задумчиво-мечтательные путешествия в молодую Советскую Россию: они хотели посмотреть, осуществилось ли то, что уже стало привычной идеей,— пришествие новых исторических смыслов от русских? Беньямин, Драйзер, Жид и многие другие искали у нас альтернативу в действии. В каком-то смысле мы действительно внесли новое начало в мировую историю, другое дело, что совсем не то, о котором мечтали славянофилы, и совсем не то, которое сблизило бы нас с Европой, позволило с силою войти в орбиту ее истории.
— Видимо, после 1917 года Россия вошла в мировую историю, минуя европейскую.
— Отчасти да, отчасти нет. 1917 год был частью общеевропейского кризиса; до сих пор большой вопрос, осталась ли после великой войны та Европа. Пафос времени, который был присущ и большевикам, и евразийцам, оказался связан с отрицанием самой концепции исторических-неисторических народов, с тем чтобы «дать голос другим». На старте ХХ века выяснилось, что Европа и человечество — не одно и то же. Россия решила быть с человечеством, передовым отрядом человечества и благодаря этому — более чем Европой. Для первых поколений революционеров это было серьезным убеждением, во что оно вылилось — известно.
— Как-то так выходит, что русская интеллектуальная элита все время хотела быть где-то вовне — с Европой, с человечеством,— а интересно ли ей было то, что творилось дома?
— Славянофилу очень интересно. В первой славянофильской газете «День» Аксакова главным отделом был областной: издание прямо сообщало, что вся наша публицистика — это публицистика двух столиц, а задача в том, чтобы узнать Россию, ее устройство. Несомненно, что интеллектуал-славянофил желает быть европейцем, но он, в отличие от большинства западников, хорошо образован и не понаслышке знаком с Европой. Поэтому знает: в Европе нет просто европейцев. Чтобы увидеть европейца как такового, нужно поехать в Россию или Турцию, то есть в страны периферии, стыдящиеся своего происхождения. А в Европе вы обнаружите англичан, французов, итальянцев и так далее — людей с наследством. В стремлении славянофилов быть русскими как раз и проявляется их европейскость, их желание не эпигонствовать, а находить ценное у себя для разговора с другими (не для обособления, конечно!). И тут Герцен им снова близок. Его всю жизнь будет оскорблять и беспокоить высокомерный взгляд представителей других народов на себя и одновременно возмущать позиция эмигрантов, которые встраиваются в чужую дискуссию благодаря полному отсутствию собственного голоса. Он хочет быть русским собеседником француза Прудона, немца Лассаля и так далее. Что значит быть европейцем? Это значит иметь свой собственный вопрос, свою проблему. А их нужно различить в национальной истории. То есть не придумывать проблему, не повторять чужие вопросы, а исходить из проблем и вопросов своей страны, которые могут явиться общечеловеческими.
— Здесь некоторое постоянство прослеживается: Россия и сегодня претендует на суверенитет, свой голос, субъектность и прочее в отношениях с Европой.
— В современных разговорах заметно желание России сказать свое слово. Хорошо, но ты же должен сначала обнаружить у себя это слово. Как ты можешь это сделать? Речь ведь не о простом зеркаливании европейского или советского опыта.
Требуется некая рефлексия, культура, самопознание, чтобы претензия страны на оригинальный голос получила оправдание (как это случилось во времена Достоевского — в результате долгого развития публичной и литературной сфер). И где мы видим эту рефлексию? Сколько исследований, изучающих интеллектуальное развитие России последних 20–30 лет, вы знаете? Сколько работ, анализирующих социокультурные процессы в регионах страны, опубликовано? Разговор о неописанности и неузнанности страны постоянно существует у нас с XIX века, но, если сравнить тогдашнюю ситуацию с теперешней, можно с полным правом свидетельствовать о деградации. То, что Аксакову или Хомякову казалось ужасом незнания, отсутствием местных голосов в публичной повестке, нам видится как буйное цветение, сад разномыслия, общественный полилог. Именно поэтому современные попытки России утвердить свой интеллектуальный суверенитет (а от него зависят и другие виды суверенитета) оказываются так часто пустыми.
— Вы считаете, что славянофилы хорошо изучили «русскую проблему», шли от реальности и фактуры?
— Многие их идеи очень умозрительные. Им регулярно говорили, что православие, о котором они пишут, существует только в их голове. Поэтому беседа, которая велась в публичной сфере дореволюционной России, была полезна: оппоненты высвечивали слепые пятна друг друга. У каждого мыслителя есть такие слепые пятна, в их преодолении — развитие интеллектуальной дискуссии. Скажем, князь Трубецкой уже в поздний период будет решать эту проблему «православия в голове», размышляя о духовном опыте иконописи, который сложно аналитически изложить; абстрактные размышления славянофилов об «общинности» русского народа в ХХ веке получат некое подтверждение в опыте церковных общин, живущих вопреки советской системе (а общины Преображенского братства живы и поныне). Часто поиск подтверждений своей точки зрения, попытки ее лучше обосновать — это история про вызов и ответ, на которую требуется время. Но, конечно, позиция славянофилов — это позиция хрупкости, выстраивания своей субъектности между Сциллой государства и Харибдой европейского эпигонства. У тебя есть своя тема, которая не является темой текущей государственной власти и не является простым отражением того, что значимо для других стран. Ты ориентируешься в общей повестке, но всегда задаешь себе вопрос: а что это значит для нас? Не что «в просвещенном мире» об этом думают, а что нам делать с этим? Причем нам — это не государству, а именно нам. Западники в таких разговорах всегда оказывались более поверхностными, но и более решительными, потому что выступали агентами «внешнего мира»: они уже знали, как надо, ответы были даны.
Однако таким образом они часто просто перекладывали проблему обретения Россией своего голоса, суверенитета на более позднее время.
— Поиск своей проблемы и национальной темы непредсказуем: способен натолкнуться на региональный сепаратизм, например. Углубляться в «детали» можно бесконечно.
— Это правда, поэтому в «Русских беседах» для меня были важны все сюжеты с формированием, например, украинского национального движения, которое сначала существовало внутри большой русской нации (малороссы, белороссы и великороссы), а потом обособилось. Очень интересно, что в большинстве споров не было предрешенности, шла конкуренция отдельных проектов друг с другом. Отношения интеллектуалов внутри Российской империи предстают очень непростыми, но они были — был диалог, разговор, перспектива центра в оценке исторической ситуации не являлась единственной. Скажем, рядом с украинским национальным движением встает сибирское областничество и так далее. XIX век не знал той централизации (при всем царизме и самодержавии), в которой живем мы с вами. И речь здесь не столько о политике, сколько об общественной дискуссии: о том, слышим и видим ли мы кого-то, кроме себя и центра. Без такого пространства слышания сложно говорить о формировании оригинальной русской повестки, ведь сам предмет разговора — русская жизнь — отсутствует.