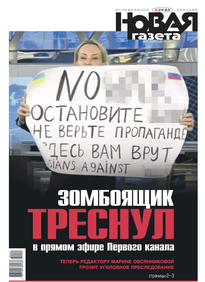Традиционное русское сознание воспринимает монархию (=автократию) как единственную форму государственного устройства, способную «удержать Россию». Этому архетипу русского национального самосознания посвящена не одна сотня академических трудов и целые горы публицистики, начиная со славянофилов XIX в. и кончая Александром Прохановым. Воплощается эта «жажда царя» в разных внешних формах — казачьей атрибутике, черно-бело-желтом знамени, лозунгах «России нужен царь» на «Русских маршах». Подыгрывает ей и официальная пропаганда, особенно монументальная — создавая памятники Ивану Грозному и Владимиру Великому. Для многих людей старшего поколения образ «жестокого, но справедливого» царя персонифицирован Сталиным — и число его бронзовых бюстиков тоже растет по всей Руси великой. Монархическими по сути идеями вдохновлялись многие добровольцы, ушедшие воевать за Русский мир в Донбасс…
Но весь этот «новый русский монархизм» разбивается об один парадокс. В стране de facto запрещено политическое инакомыслие. Монархисты, которые хотят «быть в тренде», а не сидеть по 282-й статье «за экстремизм», обращают свою «жажду царя» на личность Владимира Путина. Безоговорочно лояльны ему и признанные Кремлем «главы Дома Романовых» Мария Владимировна и ее сын Георгий Михайлович. «Истинные» монархисты при этом вытеснены в подполье.
Покруче любой монархии
Эпоха авторитаризма в истории России — это эпоха застоя в развитии политической модели государства. Разные демократические институты, созданные в 90-е для того, чтобы уравновешивать единоличную власть, постепенно утратили свое влияние и выполняют декоративную функцию. Также и объем гражданских прав и свобод последние 15 лет постепенно сворачивался, а репрессивные механизмы усиливались, доведя дело до того, что люди стали бояться не только выйти на улицу с протестом, но и поставить лишний лайк в соцсетях (ведь и за это уже сажают).
Одной из жертв «сворачивания демократии» стало и монархическое движение, которое пышным цветом цвело в 90-е. Динамичность политической модели России того времени не исключала и возрождения в том или ином виде монархии, о чем в окружении Бориса Ельцина всерьез поговаривали в преддверии 1996 года. Именно к тому периоду относятся первые заигрывания высшей российской власти с самопровозглашенной главой Дома Романовых Марией Владимировной и приглашение ее сына Георгия Михайловича (по отцу — Гогенцоллерна) на обучение военному делу в Россию.
Сегодня в России не осталось ни одной заметной монархической партии (в ходе медведевской либерализации закона о партиях одна (МПРФ) все-таки была основана в селе Косулино Белоярского района Свердловской области, но известно о ней мало). Более того — попытки монархической пропаганды вызывают бурный интерес Центра «Э», ФСБ, СКР и прочих подобных структур как «посягательство на основы конституционного строя». Жидкими колоннами выходят современные российские монархисты на «Русские марши» где-то на окраинах больших городов 4 ноября, но и там не рискуют провозглашать лозунги, не соответствующие «конституционному строю». Какие-либо собрания монархистов если и случаются, то в полуподпольном режиме; все газеты, открыто позиционировавшие себя как монархические, закрылись.
Единственным «островком законности» среди руин российского монархического движения является все та же Мария Владимировна со своими сторонниками (они называют себя «легитимистами») — и то при условии, что реально она ни на какую власть и ни на какой престол не претендует. «Великая княгиня» добровольно стала частью путинской пропаганды, что особенно проявилось во время кампании «Крымнаш». Со своим «царственным отпрыском» «глава Дома Романовых» стала периодически появляться в Крыму перед камерами; пополз даже неподтвердившийся слух, что в благодарность ей передадут Воронцовский дворец в Алупке. Цель этой пропаганды была чрезвычайно проста: создать у российского телезрителя ощущение, что и русская эмиграция, и сами потомки царей поддерживают идеи эфемерного Русского мира. Большинство активистов монархического движения, которые хотят «быть в тренде», просто влились в дружные ряды сторонников Путина, наиболее радикальные — поехали воевать в Донбасс, то есть «слились», как говорят теперь в Кремле.
Есть еще разного рода казачество, представители которого попробовали насаждать Русский мир аж в Черногории (правда, весьма неудачно). Но оно в массе своей тоже крепко держится «генеральной линии партии» и далеко от призывов заменить Путина каким-нибудь «казачьим царем».
В отличие от ельцинской эпохи проект воссоздания конституционной Российской империи при, скажем, вечном регентстве нынешнего президента даже не рассматривается. Это было бы опасным вызовом харизматической эксклюзивности Путина: в русском архаическом сознании, всячески поддерживаемом пропагандой, может быть только один царь, и восшествие на декоративный престол Марии Владимировны вызовет ненужное «раздвоение легитимности». Владимир Путин в этой системе ценностей выше монарха, чья власть имеет массу ограничений, пусть даже и наследственно-родовых или религиозных. Передача монархической власти осуществляется по определенному порядку, вступление в права монарха тоже требует определенных ритуалов, налагающих определенные обязательства. И неудивительно, что по уровню политических и гражданских свобод современная Россия значительно уступает не только полуконституционной монархии Николая II, но и правлению некоторых самодержцев XIX в. — например, Александра II и Александра III. Поэтому, наверное, и нет сейчас в России оппозиционной литературы, сопоставимой с Салтыковым-Щедриным, Достоевским, Толстым, Чеховым или Горьким, нет влиятельных групп интеллигенции, которых всерьез бы слушала власть. А в условиях такой небывалой «стерильности» формула «Нет Путина — нет России» обретает пафос апокалиптического пророчества: если без Путина больше не будет России (а он — человек, и земной срок любого человека ограничен), значит, мы стоим у финишной черты истории этой многовековой империи?
Три «монархических кита» современности
Монументальная пропаганда (после телевидения, конечно) — важнейшее из искусств авторитарного режима. При гламуре начала 2000-х ей не уделялось достаточного внимания: если и открывались какие-то памятники, то это были либо советские герои (Гагарин), либо деятели XIX века. Все мирно и политкорректно — в рамках тогдашней идеологии «гордости за лучшие достижения как имперского, так и советского периодов истории нашей страны». Даже победителем телевизионного конкурса «Имя Россия», которым по всем признакам должен был стать Сталин, объявили малоинтересного простым россиянам Александра Невского.
Все изменила война. Внешнеполитическая изоляция России, поиск внутренних врагов, атмосфера военного лагеря, которой повеяло в стране, — все это вызвало к жизни новые образы, воплощенные в бронзе. На место кажущегося теперь умеренным интегризма «белого» и «красного» пришли брутальные символы войны с внешними и внутренними врагами. Идеальными образами такого рода оказались Иван Грозный и Иосиф Сталин. А теперь, в рамках «мифологизации исторической науки», к которой прямо призывает новый министр образования и науки, к ним добавился «переосмысленный» и «освобожденный из киевского плена» князь Владимир в московской шапке Мономаха. Перед нами — три реперные точки русской истории: стартовая — Владимир Красное Солнышко, средняя — Иван Грозный, новейшая — Иосиф Сталин.
Образ Сталина легко «прочитывается» россиянами. Образ Ивана Грозного — чуть сложнее, тут уже нужен мифотворческий инструментарий министра Ольги Васильевой. Культурный шок, вызванный появлением монумента в Орле, вполне понятен: еще в советских учебниках было написано, что Грозный учредил страшную опричнину, казнившую невинных людей, вырезал почти все население вольнолюбивых Новгорода и Пскова, убил собственного сына и отравил нескольких жен, выколол глаза архитекторам храма Василия Блаженного, повелел казнить совестливого митрополита Филиппа и т.п. О последнем злодеянии царя, кстати, упоминается и в богослужебных песнопениях Русской православной церкви, которые, насколько нам известно, пока еще не подверглись редактуре в угоду новой мифологии. Зарождающийся культ Грозного (предполагается еще воздвигнуть памятник ему в Александрове, а там, может, и до Москвы дойдет) не связан с отрицанием его злодеяний. Ну разве что в самой малой степени: дескать, убил он людей значительно меньше, чем его современники — монархи Западной Европы. Этому культу как раз важно, что царь был «беспощаден к врагам», на корню истреблял сепаратизм (хорошо просматривается параллель между проевропейской Новгородской республикой и незалежной Украиной), успешно воевал с Западом и Востоком, расширяя великую империю, не считаясь с числом жертв, наконец — создал опричнину, этот уникальный рыцарский орден русского средневековья, профессионально и беспощадно выявлявший и вычищавший всякую внутреннюю крамолу (здесь просматривается параллель с ФСБ и прочими спецслужбами, обладающими «горячим сердцем» и «холодной головой»). Что же до «личной жизни» царя, то не холопье это дело вообще ею интересоваться. В общем, в современной России, где «мир — это война», слабые стороны образа Грозного, этот позор русской истории, вдруг преобразились в его сильные стороны и стали славой русской истории. Теперь следует гордиться опричниной и геноцидом «новгородских сепаратистов», на всякий случай напоминая и жителям Казани с прочими кавказскими регионами, какой урок им преподал настоящий русский царь.
Самую сложную «мифологизацию» претерпел святой князь Владимир. Но это и не мудрено: от его эпохи нас отделяет уже более тысячелетия. Летопись честнее, чем пафосные речи на открытии памятника в Москве 4 ноября. Если президент награждает князя штампом «собиратель русских земель», то летопись повествует, как он взял Киев с помощью иностранной армии, поднял жителей города «на Майдан» против законного князя Ярополка — своего старшего брата, которого позже собственноручно убил во время переговоров. А Крещение Руси, по версии Путина, нужно было для того, чтобы дать русскому народу «нравственную опору» для укрепления «мощи и величия» государства. Так религия становится делом государственным, а не внутренне личным, духовным. Еще дальше эту мысль развивает патриарх Кирилл, считающий, что правитель просто обязан насаждать свою веру среди подданных. В этом контексте прозвучало и обращение патриарха: «Этот памятник — напоминание всякому, взирающему на него: «А ты так же искренен в своей вере, в своей любви к Отечеству, народу, как и святой князь Владимир? Или ты хочешь дистанцироваться от всех и вся ради частной выгоды и своекорыстного интереса?»
***
Главное противоречие современного монархического движения в России навязано ему извне: в условиях современной репрессивной модели государства оно не может прямо выступать за смену конституционного строя. Характерный пример: общественное движение «За веру, царя и отечество», организованное опальным иеромонахом Московской патриархии Никоном (Белавинецом), еще на стадии регистрации вынуждено было изъять из своего названия слова «царя». Симпатизируют монархии и некоторые православные объединения типа «Союза православных хоругвеносцев» или «Союза «Христианское возрождение», но вслух они об этом не говорят, ссылаясь на доктрину «непредрешенчества» (учение о том, что династия Романовых безвозвратно сошла со сцены, а новая династия пока не избрана). В общем-то и Российское дворянское собрание также в теории выступает за монархию, но в последние годы это сводится к поддержке заявлений «великой княгини Марии Владимировны», которая, в свою очередь, поддерживает политику Кремля.
Есть ли вообще в современном мире такая модель монархической власти, которая подошла бы России? На европейском пространстве монархии если и сохранились, то в ультраконституционной форме, практически ничем не отличающейся от обычной западной демократии, которая смешит российскую власть. На Востоке, в арабском мире, есть самодержавные формы монархии, близкие к авторитаризму, но они все имеют теократическое происхождение, то есть опираются на ислам и даже на родство монархов с Пророком как на источник своей легитимности. Россия недостаточно монолитна в религиозном плане, да и вообще недостаточно религиозна, чтобы построить такую модель.
Российский «новый монархизм», если о нем вообще корректно говорить, — это не что иное, как «старый добрый» авторитаризм, только поставленный на военные рельсы. Авторитаризм — как коммунизм: может быть мягким, хрущевским, а может быть и «военным», с красным террором и продразверсткой. Проблема наша в том, что власть не выдвинула какого-либо модернизационного проекта для России, подобного, скажем, петровским или столыпинским реформам.