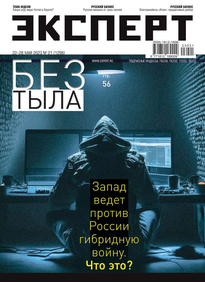— У нас и до войны были взрывные травмы, — говорит Эмиль Яковлевич Фисталь, облокотившись о длинный полированный стол. — Шахтеры взрывались на глубине. Наши шахты — самые глубокие в мире. В период становления производства чем больше добывалось угля, тем больше было травм. К четырнадцатому году у нас был уже большой опыт оказания помощи шахтерам. Поэтому, когда началась война, мы — хирурги — были готовы. Промышленный травматизм в Донецке в двадцать раз превышал травматизм по всей Украине. Когда все началось, мне предлагали в четырнадцатом ехать за границу. Но у меня есть своя родина.
Профессор Фисталь — европейского уровня величина. Лауреат разных премий, один из лучших специалистов Европы по ожогам и госпитальной хирургии. И то, что он величина, слышно из всей его манеры говорить: Фисталь старается быть доступным — для окружающих.
— У вас в палатах прооперированные украинские пленные, — говорю я. — Они стреляли по вашей родине. Как вы к ним относитесь?
— Без ненависти. Я вообще человек не злобный. За наших я горжусь. А к этим отношусь скептически… скептически-лояльно, я бы сказал. Они воевали, они в нас стреляли. Но я бы знаете как сказал… — Фисталь задумывается. — Я их лечу. Но без удовлетворения. Для меня счастье, когда люди выздоравливают. Это в любом случае для меня душевный подъем. Вылечив националиста, я не получу удовлетворения и презирать себя за это не буду.
Фисталь уходит в отделение. На ходу заглядывает в палату, откуда слышится задорный хор мужских голосов. Здесь подорвавшиеся на минах саперы. В соседнюю палату Фисталь не заглядывает — там уже прооперированный украинский пленный. На соседней с ним кровати — охранник с автоматом. Я захожу в эту палату.
— Я не знаю, о чем мне с вами общаться, — агрессивно говорит пленный.
— Как долго вы воевали? — спрашиваю его.
— Шесть месяцев.
— Можно сказать и так! — злится он.
— Пошел по контракту.
— Зачем же вы пошли по контракту? Вы же знали, что придется убивать.
— Я никого не убивал. Я про себя знаю, что стрелять в человека никогда не буду.
— Я думал, шесть месяцев простоим, я получу деньги и вернусь домой, в Северодонецк. Когда пришлось стрелять, мы просто автоматы сдали, и все.
— Неужели вы пошли только из-за денег? — спрашиваю я, и он смотрит на меня уже с ненавистью, но не националистической, классовой.
— А за шо еще? — спрашивает он.
— До какого конца? — сквозь зубы говорит он. — В смысле, типа умереть? А кому это надо? Моему сыну? Моей матери с инсультом? Да мы чудом остались живы. Нас всю ночь до утра с «Градов»… Всю ночь. Беспрерывный обстрел. Просто чудом не попали в блиндаж. И просто чудо, что не закидали блиндаж гранатами и установили голосовой контакт. Мы выкинули автоматы и вышли к этим — ДНР.
— Не знаю… — он молчит. — Я не знаю, как вам это объяснить. Мне не за что вас ненавидеть. Но и любить вас не за что. Вы — обычные… соседи.
Мое появление в палате саперов прерывает хохот. Один раненый, худой изможденный мужчина, хватает костыли и ковыляет к двери, что-то бурча. Трое оставшихся провожают его смешливыми взглядами.
— Не обращайте на него внимание. Он у нас нервный, — говорит один — крупный, с густой шевелюрой. Его нога в гипсе.
— А я готов вам рассказать, как наступил на мину, — говорит с кровати другой, у него отсутствует нога. — Три дня оставалось до признания Путиным наших республик, а я вот так травмировался…
— А в меня попал украинский снайпер, — говорит первый. — Стрелял разрывной пулей. Она разорвалась рядом и осколками сломала малую берцовую кость. Вот Егор меня вытаскивал. — Кивает на соседа.
— Вытаскивал, а потом сам попал. Тут мы и встретились. — Они хохочут. — А вы к пленному заходили? — неожиданно прерывает смех Егор. — Пусть спасибо скажет, что мы не пошли и ему голову не набили. Это уже хорошо. Но был бы у него крест, вырезали бы ему новый — на лбу.
— А у него есть, — говорю я, и раненые резко вскидываются на кроватях. — На веревочке, православный!
— Так вы предупреждайте, — крупный опускается на кровать. — Я имел в виду фашистский. Что ж вы так пугаете? А так его могли просто мобилизацией, как метелкой, подмести: «Иди, воюй против России и ДНР».
— А че вы так на нас с жалостью смотрите? — спрашивает Егор. — Я на войне с четырнадцатого года, мы ползали под носом у украинцев, на их позициях мины ставили. Я ничего с тех пор не потерял, а только приобрел — боевой опыт и друзей. Нет, не могло бы быть у меня другой жизни. Я свою жизнь сам выбрал в четырнадцатом году. И ни разу не пожалел.
— Даже когда ползали между мин, — замечает второй, и они снова хохочут над шуткой, понятной только им.
— Та-а-ак… — в палату заглядывает Фисталь. — Что тут происходит?
Саперы, как дети в детском саду, послушно ложатся на кровати.
Начало апреля 2022 года. Дальше от Волновахи, освобожденная территория
По проселочной дороге тяжело катит велосипед. На нем женщина в белом платке, завязанном под подбородком. Из набухшей и как будто приподнявшейся земли лезут острые, как штыки, листья луковичных. На скамейках отдыхают на солнце старушки. Велосипед останавливается у машины, в которой мы привезли продукты для пожилых. Женщина слезает, берется крепкими руками за руль и сиденье. Настороженно смотрит на нас. С другой стороны приближается еще группа женщин.
— Вы в нашу школу приехали? — спрашивают они. — Мы учителя. А мы думали, вы нам пленку для окон привезли, — говорят разочарованно. — У нас школа разбита. Нужна пленка — окна затянуть. Пойдут дожди, мы школу уже не спасем.
— А что происходило! — галдят они. — Вы еще спрашиваете! У школы поставили пушку, а в школу солдаты зашли.
— И носили что-то, носили, чи мины, чи патроны, — говорит женщина в платке.
— Это наш школьный повар, — представляет рослая женщина ее, а себя — учителем физики. — Ой, какую она нам выпечку раньше готовила… А теперь ее дом разбит, школа разбита. Они по-тихому ночью зашли, выбили в школе окошко и залезли туда. Кто «они»? Понятно кто — Украина.
К учителям с двух концов улицы подходят еще и еще женщины. Они галдят уже все вместе плотным хором.
— А когда дэнээры заходили, мы дивимся — Украина опять идет! Думаем, сейчас нас опять выгонят с хаты. Мы спросили одного, кто они такие. Он сказал: це ДНР. Мы тогда уже смело вышли. Чего мы боялись?! Ну боялись мы! А они начали идти, с нами здороваться, с нами разговаривать.
— А почему вы украинских военных боялись? — спрашиваю я. — Это же ваша армия.
— У нас вон в конторе было бомбоубежище, — говорит повар. — Они ж оттуда людей выгнали, сказали: «Мы тут будем». Нам для эвакуации они привезли автобус: «Садитесь, выезжайте». Ну, естественно, никто в него не сел.
— А почему?
— А потому, что один они расстреляли! — кричат громче. — Было страшно садиться. Другой они вывезли за село и высадили всех. Все было для картинки. Мы уже их хорошо знаем. А шо удивляться? Юля Тимошенко еще в четвертом году сказала, что Донбасс надо обнести колючей проволокой. К соседу Васильченко пришли: «Давай ключи от машины». Машина — внука, ключи у него. Он говорит: «У меня ключей нема». Еще раз пришли: «Давай ключи». «Ну нема». Пришли, с бэтээра расстреляли машину, окна, забор. Раз не дали машину, и вам не будет.
— Нет, подождите. — Седая женщина в желтой куртке выходит вперед. — А что, если они вернутся? Вы поглядите: Путин все военные базы и оружие им поуничтожал, но тем не менее они воюют, не отступают и Донецк обстреливают. Откуда оно — оружие —берется? А если у них есть оружие, они развернутся и вернутся назад.
— Избави Боже! — выдыхают женщины. — Капец нам будет, когда останемся с ними один на один… А вы нам пленку не привезете? Когда привезете, мы и определимся, как мы к России относимся.
Середина апреля 2022 года. Донецк, Институт хирургии
По больничному коридору, хромая и сутулясь, идет женщина в красных штанах и майке. За руку она ведет девочку лет девяти и мальчика лет четырех. Когда она подходит ближе, становится видно, что лица ее детей обгорели. У мальчика нет бровей, на голове шрамы. Женщина встречается со мной сонным взглядом и сразу начинает монотонно говорить:
— А у нас был пожар. Горящий снаряд упал на нашу квартиру в Мариуполе. Трое детей — вот что осталось. А остальные с мужем в пожаре остались. Многодетная семья мы были. В четыре утра снаряд упал. Я с новорожденным в кладовке спала — он двадцать четвертого февраля родился. А муж с остальными детьми из-за окон побитых спал в коридоре. Получается, упал горящий снаряд в четыре ночи на то место, где они легли спать, — продолжает она как сомнамбула. — На нас потолок упал. Старшей было четырнадцать. Тиана звали ее. Четверо детей у меня в школу ходили. Еще сын был — две тысячи восьмого года. Другой сын в первый класс ходил. Этторе его звали. Муж назвал. Еще сыну было пять лет. А этот, — показывает на мальчика, — на год младше. Нормальные дети были — по характеру. Может, они уцелели, не знаете? Я без сознания была. Девочка, получается, сверху была. Их всех придавило, я начала их всех тянуть. Сначала этих дотянула, — кивает на детей. — Соседи с крыши открыли кухни окно. Я дите новорожденное держала в окне, чтоб он сильно не ожегся. Надышался только немножко. Я его на карабинчике первым подняла туда. Потом на этого пожар пошел. — Дергает руку мальчика. — Он и она были возле меня у окна. Дыма много было. А дети кричали адским криком: «Мама, спаси! Мама, спаси!» Потом отключился муж — перестал подавать признаки жизни. Старшей дочке на лицо упало, она хрипела, кровь шла. Этторе лежал без звука. Вещи на нем горели. Я стала тянуть, но сознание потеряла. Очнулась в подъезде. Меня в какой-то военный госпиталь увезли, потом сюда. Я там говорила, что у меня дети. Доставили их в больницу — опознать. У него отек был, глаза закрыты. Ему сердце заново запускали. И новорожденный. Я говорю: «Да, это мои дети». По запаху своих узнала. Врач сказал, новую кожу мне посадят. Но мне теперь трудно будет начать с чистого листа. Четверо детей меня тянут. — Она виновато смотрит на меня.
Середина апреля 2022 года. Донецк, Институт хирургии
В кабинете Фисталя за длинным полированным столом — медики в белых халатах.
— Вода дается два раза в сутки, — говорит главврач в усы. — А у нас стерилизация, приготовление пищи. Это критично. Критично.
Еще девятнадцатого февраля МЧС ДНР сообщало о повреждении артиллерийским огнем Южно-Донбасского водовода. Он подавал воду из канала Северский Донец — Донбасс и являлся основным источником водоснабжения республики, а также части территории, находившейся под контролем Украины. Позже был поврежден и сам канал, а потом — третий в районе Горловки и насосная станция возле Ясиноватой. Жители получали воду из резервного водохранилища, но предполагалось, что ее хватит только на месяц. Сейчас в Донецке воду дают два раза в сутки и не везде. Ремонт невозможно провести из-за постоянных обстрелов.
— А что делать? — спрашивает Фисталь. — Только освобождать Горловку, другого способа нет.
— У нас есть кубы и шланги, — говорит главврач. — Но как поднять семьсот литров воды? И где ее взять? Хотя бы пять-шесть цистерн воды могли бы обеспечить нам сутки работы, стерилизацию, мытье инструментария, помывку больных.
— Д-да, — говорит Фисталь тоном человека, который не привык сталкиваться с нерешаемыми проблемами.
— Что делать? — спрашивает в никуда главврач. — Ладно, работаем, братья. Вот и все. — Он встает и идет к двери. За ним — остальные медики. — Работаем, ни шагу влево, ни шагу вправо.
Фисталь остается в своем кабинете один. Скромные жалюзи пропускают едкий солнечный свет. «Будет победа, будет вода», — говорит сам себе Фисталь.
Дверь приоткрывается. В кабинет заходит женщина с темной челкой, в джинсах. В ее шагах слышится легкий вызов. Она садится напротив Фисталя, кладет сумочку на колени и сжимает ее ручки.
— Вот не вовремя вы, Эмиль Яковлевич, приучаете людей к классической музыке, — говорит она. — Нет, конечно, это ваше мнение и ваше видение, — добавляет, заметив, что Фисталь хочет возразить.
— Насчет «невовремя»… — начинает Фисталь.
— Не напоминайте про блокадный Ленинград, — перебивает она, — это разные войны. А я сейчас заходила к раненым мобилизованным студентам. Видели бы вы их глаза… Им не до классики. А сегодня… а сегодня… сегодня хоронят ве… — Она набирает воздуха в легкие: — Великого. Он — великий. — Женщина задыхается от рыданий. — А его призвали. За шкирку и на войну. Мобилизовали шестьдесят пять процентов филармонии.
— Ну ладно… — растеряно говорит Фисталь.
— А то, что великий музыкант… джазист… — Она делает долгие паузы, хватая воздух, — …виртуоз, которому прославить Европу… — Она открывает сумку и вынимает из нее неожиданно едкий салатовый платок, закрывает им лицо. — Он великий, он не умеет даже оружие держать, — из-под платка говорит она. — А вы — классическая музыка… Какая классическая музыка, когда душа рвется?
— Ну возьми баян, — соглашается Фисталь, — и пару солистов.
— Я возьму. — Она отнимает от лица платок, громко шмыгает носом. — Раненым больше подойдет народное творчество. Во-первых, мы мобильные с баяном, во-вторых, народная песня — она как-то к людям ближе и позитивней.
— И споем нашу: «На закате ходит парень мимо дома моего, — флегматично выводит Фисталь, поводя плечами. — Поморгает мне глазами и не скажет ничего».
Фисталь идет по длинному тоннелю, соединяющему отделения. На ходу рассказывает о солдате, лишившемся обеих ног.
— У него суицидальные мысли появились, — говорит он. — Но к нему вернулась бывшая невеста, и он ожил.
Сворачивает в перевязочную.
Здесь на одной кушетке лежит женщина с черными пятками. На ее ноге отсутствует лоскут кожи. Она прячет лицо. В палату завозят мужчину. Он гол. Лежит, прикрыв рукой промежность, с безразличием к своей наготе смотрит в потолок.
— Ты сколько лет уже воевал? — спрашивает его Фисталь.
— С четырнадцатого, — отвечает мужчина. — Только на гражданку уже ушел. Сын мой девятнадцатилетний сейчас воюет.
— В Мариуполе? — уточняет Фисталь.
— Так точно. Повестку получил. А я за ним пошел — сын все-таки. Решил с ним быть.
— Хо-ро-шо, — наклоняется над раной Фисталь. — Ни кровотечения, ни воспаления… Будем надеяться.
— Я сделал так, чтобы мой сын и мой племянник вместе со мной были, — говорит мужчина, продолжая глядеть в потолок. — Я учил их. Я учил не только их, а всех призванных студентов. Чтобы они умели. Потом взвод у нас посыпался… Племянника ранило. Он тоже здесь. А сын там.
— А знаешь, сегодня хоронят музыканта из филармонии, — рассеянно говорит Фисталь, но в глазах его, изучающих рану — высокая концентрация. — Одного из лучших… пианистов за всю историю Донбасса.
— Кто такой? — спрашивает мужчина.
— Коля Звягинцев.
— Победим, — говорит мужчина. — С четырнадцатого мы оборонялись. Сейчас — наступаем. Гибнут те, которые в боях не были. А победить мы еще несколько лет назад должны были. Все это еще в шестнадцатом ожидалось — так оно накручивалось.
Фисталь подходит к кушетке, на которой лежит женщина. Ее спина напрягается еще сильней. Кажется, она чего-то боится.
— Ну, это уже надо оперировать, — говорит он. — Назначайте ей операцию. Рана небольшая, но все это сразу надо было удалять. Ну ладно, ничего страшного. Уберем остатки некроза, а кожу возьмем с бедра.
Женщина дергает головой и смотрит побитой собакой на Фисталя. Это Татьяна Демченко, мать сгоревших детей.
— Боюсь, — говорит она.
— Боитесь? — переспрашивает Фисталь, цепляя на пинцет марлю. — После того, что с вами произошло, этого бояться точно не надо. Это такая мелочь по сравнению… Не думайте об этом.
Ближе к концу апреля 2022 года. Освобожденные территории
Почки уже лопнули. Поля набухли и приподнялись, будто черная опара. Атмосфера острого несчастья и страха, царившая тут еще две недели назад, ушла. На ее место заступили зыбкость, неуверенность, исходящая от всего, а особенно от нарциссов, потянувшихся вокруг разбитых домов.
На закрытых дверях надпись: «Не лазито!». Возле школы — воронки от снарядов.
Посреди коридора, заваленного зелеными пакетами из-под сухпайков украинской армии, бутылками дорогого алкоголя и снежинками, вырезанными из белой бумаги, стоит учительница русского языка — до освобождения учительница зарубежной литературы, преподававшая русских классиков русским детям на украинском языке. В кованых подставках — высохшие комнатные цветы. На партах — чашки с недопитым украинской армией концентрированным чаем, баллоны с соленьями из местных подвалов.
— Я пришла сюда в девяносто девятом году учителем русского языка и литературы, — говорит учительница. — Потом русской литературы не стало, появился курс зарубежной литэратуры, — она автоматически переходит на украинское произношение, когда речь заходит об украинских порядках. — Но у меня был диплом учителя русского языка, и Украина говорила, что я не имею права преподавать зарубежную. Я прошла короткие курсы и начала преподавать русскую литературу на украинском. С пятого по одиннадцатый классы мы изучали русских писателей — Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Окуджаву, Симонова, Чехова.
— А чем Толстой Украине не угодил? — спрашиваю ее.
— Программа писана не нами. Когда мы изучали русскую литературу, на «Евгения Онегина» отводилось двенадцать часов, сейчас — два урока. На «Преступление и наказание» Достоевского — полтора часа. В десятом классе мне один мальчик сказал: «Да, помню Достоевского — это где мужик топором бабку зарубил». А что вы хотите за полтора часа?
— Русскую литературу вы тоже преподавали на украинском?
— Абсолютно все. Дети — русскоязычные. Они подходили к нам и просили разрешения читать русских писателей на русском. Мы говорили: «Читайте. Но учтите: когда будем выставлять оценки, вам придется сдавать экзамены на украинском. И вы можете не сдать».
— Вас бы поругали, если бы вы вели урок на русском?
— Это было общее настроение. Мы тут все думаем на русском. А знаете, как определяется национальность человека? По тому языку, на котором он думает.
— А вы не начали на украинском думать?
— Нет. — Смеется. — Вы не найдете у нас тут ни одного учителя, которому переход на украинский не дался бы тяжело… — Она осекается. Из-за угла выходят завуч, директор и учительница физики с мужем, сыном тринадцати лет и депутатом Народного совета ДНР Юрием Леоновым. Тот несет рулон пленки для окон.
— Здравствуйте, здравствуйте, — говорят учителя.
— А что было бы, если бы вы нарушили распоряжение и начали вести русскую литературу на русском? — спрашиваю я.
Учительница русского теряет прежнюю словоохотливость, молчит.
— Ну а что было бы? — переспрашивает завуч. — У нас есть приказ — надо его исполнить. Я, как завуч школьный, не имею права ослушаться. Но думаю я на русском, потом перевожу на украинский. И знаете, такая заминка легкая бывает.
— Они даже у «Лукоморья дуб зеленый» перевели на украинский, — насмешливо говорит учитель физики. — На русском я знаю наизусть. А на украинском — избави Боже! Капец, я искала, как буравчик на украинский перевести. И знаете, как будет? Свэрлик!
— Ну, — говорит завуч, — года два-три мучаешься, а потом легче. Нас ломают, а мы ломаемся.
— Ломаетесь? — переспрашиваю я.
— Ломаемся, — подтверждает завуч. — И дети ломались, когда их, русскоязычных, резко начали на украинском обучать. Они, когда пишут сочинение, всегда спрашивают: «А это на украинском как будет?».
— А что происходит с людьми, которые постоянно ломаются? — спрашиваю я.
— Вот я на педсовете говорю на украинском, — отвечает завуч, — и у меня вдруг слово русское вылетает. А мне только украинская мова положена. Ну что делать? Я извиняюсь за русское слово и иду дальше мовой говорить.
— А мне до лампочки, — говорит учитель физики. — Я сказала свою мысль, и мне неинтересно, какими словами — русскими или украинскими.
— Но дома мы все на русском говорим, — замечает учитель русского. — Но перевод, как мне кажется, русского на украинский, лишает произведение духа писателя. Мы русскоязычные, и дети у нас русскоязычные.
— А что такое — отнять у русского человека русский язык? — спрашиваю я, отмечая, что директор, больше похожая на менеджера, все время молчит.
— Как по мне, — отвечает та же учитель русского, — это все равно, что отнять часть души. Это все равно, что отнять мой дом, мою работу. Мне перестать думать на русском?
— Но вы смирились с ситуацией?
— Это индивидуально для каждого, — отвечает она же. — Я сама закончила украинскую школу, но у меня был выбор — украинский язык или русская литература. Я сама выбрала русскую. Ну вот как вы Булгакова будете читать на украинском?
— А вас надо было освобождать?
Учителя переглядываются. Вопрос их настолько застает врасплох, что они пятятся. Скрипят осколки под их ногами.
— Мы еще сами не поняли, если честно, — говорит директор, сунув руки в карманы пальто. — Это ж надо сравнить. Если станет лучше, тогда стоило, наверное…
— Просто до того у нас была работа, был свет, был газ, — говорит учительница физики. — Хоть какая-то, но стабильность. А сейчас мы как на распутье. И школу нашу хотят закрыть — восстановлению не подлежит.
— А возможность обучать детей на русском разве того не стоила? — спрашиваю я.
— Знаете, у нас сейчас у каждого сумасшедший страх, — испуганно говорит завуч. — Другие школы открывают, а нашу — нет. Мы останемся без работы. А как нам жить без работы?
— Я могу вас сфотографировать? — спрашиваю я.
— Нет. — Они отступают еще дальше. — Ни для вас, ни с вами мы фотографироваться не будем.
Из класса выходит Юрий. Он несет открытку. На ней по пшеничному полю идет воин АТО. Такие раздавали детям Донецкой области, находящейся под Украиной, чтобы они могли написать украинским военным письмо.
— А правда ли, что к вам приходили украинские военные и вели уроки для детей? — спрашивает он.
В коридоре что-то меняется. Тут как будто становится явственней дух украинских бойцов, пивших этот тяжелый чай, евших соленые помидоры, насыпавших осколки снаряда на парты. Устроивших из парт огневые точки у окон. И в конце концов заминировавших школу в нескольких местах — уходя и просто так.
— Правда, — говорит директор. — Но они же ничего такого не делали…
— Это такой неловкий момент, — произношу я. — Вы восемь лет платили налог на АТО, зная, что АТО поливает Донецк, Ясиноватую снарядами. А сейчас вы, наверное, надеетесь, что Украина еще вернется?
— Да просто мы всего боимся, — сдавленно говорит завуч. — Мы же зависимые люди. У нас сейчас те, кто выехал на территорию Украины, будут получать зарплаты. А мы — нет. Потому что мы теперь для Украины — пособники. Одним тем, что остались у себя дома. Нам четко сказали: вам зарплату платить не будут, а новая власть школу закрывает. Через десять дней Украина вернется, на Крым пойдет, и что с нами будут делать за эти ваши фотографии?
— Кто вам сказал, что Украина на Крым пойдет? — спрашивает Юрий.
— А у нас есть генератор, мы его подключили и смотрим украинское телевидение, — говорит учительница физики.
— А у меня дочь на Украине, — говорит завуч. — Она мне оттуда передает.
— Самое страшное, что у вас связь с Украиной осталась, — говорит Юрий. — А с новой властью вы связь не наладили.
— Да ходили мы к ним, в отдел образования, — говорит директор. — Оставили заявку на разминирование. Нам сказали: «Мы вас закроем». А к нам и дети выезжавшие уже вернулись. И родители написали коллективное письмо — за школу.
— Фамилии тех, кто так сказал! — говорит Юрий.
Женщины молчат.
— Я вам предлагаю вместе со мной поехать на встречу с новым руководством.
— Не пойдем мы с вами, — говорит директор. — Мы люди подневольные. У нас есть субординация. Нас приучили сначала в отдел образования ходить, потом уже к руководству.
— Почему вы всего так боитесь? — спрашивает Юрий.
— Мы не вас боимся. А того, что продолжится все, как было при Украине. Думаете, Украина нашу школу не хотела закрыть?
— Но что вы все это время чувствовали, когда бомбили Донецк?
— А что могут чувствовать русскоязычные? — с обидой в голосе спрашивает муж учителя физики.
— Когда пушки стреляли отсюда в сторону Докучаевска, а у нас пол ходуном ходил, мы, конечно, прекрасно понимали, что, если отсюда стреляют, значит, где-то снаряды падают и разрываются. И кто-то погибает!
— Но вы подсознательно уже отделили себя от людей, живущих в республиках, или считали себя по-прежнему одним народом?
— На работе говорили: «Поедете в ДНР, вы тут не работаете», — говорит муж учителя физики.
— А что ты чувствуешь, когда Гладковку обстреливают?! — кричит учитель русского. — Что ты можешь чувствовать, когда знаешь, что на Текстильщики в дом твоего брата прилетело?! Истерику! Просто истерику! Что ты можешь чувствовать, когда тебе звонят и говорят, что твой дядя Витя… твой любимый дядя… что его сердце не выдержало обстрелов, а тебя хоронить не пускают?!
— Хорошо, что у меня нет своего класса, — говорит учитель физики. — И я не видела, как дети пели украинский гимн с рукой на сердце. А если видела, то просто уходила. Вот у меня Антошка пошел в первый класс. Мы собрались как все нормальные дети — костюм, белая рубашечка. И вдруг узнаем, что нам нужно в вышиванке приходить. Родители, конечно, все были в трансе. У нас сестра в Сумах жила, она нам прислала.
— А ему вышиванка бы подошла, — говорю, глядя на Антона.
— Подошла бы, — замечает его отец, — если б не навязывали.
— А дети стали патриотами Украины в результате всех этих усилий? — спрашиваю я. Все поворачиваются к Антошке.
— Ну, наши дети, которые сидели здесь в феврале, четко видели, кто и откуда стрелял, — говорит его мать. — Им теперь точно сказок не расскажешь.
— А ты видел, кто стрелял? — спрашиваю мальчика.
— Ну да… — отвечает он. — Они же возле нашего дома стреляли.
— Но как ты понял, что это украинский танк, а не российский? — уточняю я.
— Там же все видно, — смерив меня снисходительным взглядом, отвечает Антон. — У русских зеты стоят. А у украинцев даже цвет формы другой.
— Но ты удивился, что после всех этих открыток, вышиванок, лекций ВСУ, украинские танки по вам стреляют? — спрашиваю его.
— Нет. Просто непонятно было зачем.
— Зачем — понятно, — хором говорят учителя. — Наш депутат сказал, если за три дня не отобьем Волноваху и села, сотрем все с лица земли. А вы не знаете, говорят, фронт двигается. Мы выходили от них дома защищать, встали живым щитом: «Шо вы робите?!» «Хочешь жить, иди в подвал, тетка» — такой был ответ. Вот и защитили.
— Когда ваши дэнээры зашли, мы хоть из подвалов вылезли, — говорит завуч. — Когда наша армия пойдет, снова залезем.
— Я вас прошу, — произносит Юрий. — Работайте, как работали. Взаимодействуйте с новым руководством. Чем быстрее вы начнете, тем быстрее все наладится. От вас самих тоже многое зависит. И уберите поскорее в школе.
Учителя неуверенно смотрят на него. И неясно, хочется ли им избавляться от гнета, из подневольных превращаться в вольных. По крайней мере — вольноязычных.
— Отнеситесь к нам снисходительно, — говорит завуч. — Вас мы не боимся, а наших боимся.
Ближе к концу апреля 2022 года. Донецк, Институт хирургии
В палате четыре женщины. Одна — старушка — лежит на животе. Ее плечи посечены осколками. Другая с перевязанным глазами сидит, неудобно расставив загипсованные ноги. Рядом с ней, опустив голову, сидит мужчина. У третьей из-под одеяла выглядывают наполовину ампутированные стопы в бинтах, залитых йодом. Четвертая — бледная, лохматая, со сгоревшим лицом — спит. Она внезапно открывает голубые глаза, когда мы с Юрием Леоновым наклоняемся над ней.
— Я помню, как заползла в подъезд, — говорит она. — Находилась там без сознания три дня. Приходила в себя, когда начинала гореть, тушила и снова теряла сознание. Смотрите, какая я красивая — лицо сгорело, я лежала на чем-то горящем. Потом я вышла, пошла. Увидела БТР. Они остановились. Оттуда вылезли кадыровцы. Как они меня такую страшную не пристрелили? Я шла как смерть. Они говорят: «Кто тебя бил?» — «Никто». Они меня погрузили на БТР, повезли в больницу. Там сказали, что не примут — не жилец. Привезли сюда. А где дети мои, я не знаю. И муж. Наш дом сложился.
— А можно вас попросить помочь? — обращается мужчина и смотрит на Юрия большими спокойными глазами. — Тещу похоронили во дворе, а детей — на кладбище. Можно попросить детей больше не тревожить, — на последнем слове его губы кривятся. Вздохнув, он что-то давит в себе.
— А кто хоронил ваших детей? — спрашиваю я.
— Мой брат. Я не мог жену бросить. Она уже в больнице была, а дети пять дней на улице пролежали. Потом у брата получилось взять машину у товарища и вывезти за город свою семью. На этой машине он вместе с сыном вернулся к нам, мы вместе с ним погрузили наших детей, и он повез их к нашей матери в деревню под Мариуполем на кладбище. Надеюсь, у него получилось доехать и их похоронить. Связи с ним нет. А теща еще во дворе лежит. Там четыре могилы. Я хотел узнать, как документально это оформить, хотелось бы без эксгумации. Ну, со двора, понятно, тещу придется переносить, а детей не хотелось бы.
— А сколько у вас было детей? — спрашиваю я.
— Трое, — говорит его жена с кровати. — Шестнадцать, девять и ш… ш… ш-ш-шесть, — она закрывает рукой уцелевший глаз. Рыдает.
Я выхожу из палаты. Отец меня догоняет.
— Вы что, из России? — спрашивает он. — Вы думаете, я Путина, что ли, виню? Это, скажем так, было очевидно, что украинские власти продали Украину. Еще с четырнадцатого. Не переживайте так, к нам прилетел украинский снаряд. Я абсолютно в этом уверен. Вы лучше помогите: у нас бабушка в палате лежит, ей выписываться некуда. Сына надо найти. И нам на день коляску найти. Жене глаз удалили, в четверг будут швы снимать. Надо в Калининскую больницу везти. Я бы взял в прокате, но там нет. Меня зовут Владислав.
Мы с Юрием уходим к дежурному доктору искать коляску. Тот сидит, развалившись, в кресле. Он сонно поворачивается на нас, щелкая кнопкой на ручке.
— Какая коляска? Вы о чем?
— Коляска для Кабановых, — говорит Юрий.
— И что? Вы чего хотите?
Юрий на повышенных тонах объясняет ему суть проблемы.
— А вы вообще кто? — врач еще раз щелкает ручкой. Когда мы представляемся, он собирается, вскакивает: — Пойдемте, пойдемте.
Дежурный врач уводит нас к той же палате и уходит. Через пятнадцать минут Юрий уходит его искать. Подходят санитарки.
— Вы только кефир жирный не везите. Тут практически все мариупольцы, неходячие. Тут у каждого такие судьбы — легче не спрашивать. Ну вот женщина одна у нас. Вышла с сыном из машины возле дома, ребенку четырнадцать лет. Машина развернулась, попала на мину, подскочила на ней и на ребенка. Ребенка придавило, мать его глазами видит, он горит. Она его тянула, тянула, пока сама сознание не потеряла. Не спасла. А что нам делать? Не работать не можем. Пойдем поплачем, чтоб они не видели, вернемся и дальше работаем. Но это как дыра в душе.
В коридоре появляются Юрий с Фисталем.
— Так, что тут происходит? — спрашивает Фисталь. — Что вы тут за панику устроили?
Мы идем за ним. В его кабинете рассказываем об удаленном глазе, швах, которые надо снимать в четверг, и коляске, которую надо найти.
— Какая коляска? Успокойтесь, — говорит Фисталь, садясь за стол. Он снимает трубку стационарного телефона.
— Мы не можем успокоиться, — говорит Юрий. — Ей надо снимать швы, а если вынут временный протез, то глаз зарастет, и надо будет оперировать его снова.
Фисталь возвращает трубку на место и снисходительно-флегматично разглядывает Юрия.
— Ладно, мужа ее позови.
Заходит Владислав. Скромно садится в сторонке.
— Вы в своем уме все? — спрашивает Фисталь. — Глаз — это не главная ее проблема. У нее переломы. Вот скажите мне: что за срочность?
— Но окулист сказала, чтобы мы с этим не затягивали, — говорит Владислав.
Фисталь снова берет телефонную трубку: «Сусанна, набери заведующего глазного. Перезвони». Кладет трубку.
— Эмиль Яковлевич, — поворачиваюсь я к Фисталю, — вы как относитесь к Божьей воле?
— По-разному, — изрекает тот и берется за трубку зазвонившего телефона. — Сергей, вы где? А-а, из операционной только вышли. Вот такой вопрос: у нас пациентка Кабанова из Мариуполя, снаряд убил ее детей. У нее отсутствует глаз. Кто оперировал? …Вот смотри, что получается: у меня сейчас полный кабинет людей, один — местный депутат, а другая даже из Москвы приехала. Устроили тут панику. Говорят, им немедленно в четверг надо в Калинина ехать. В чем срочность?! — впервые проявляет эмоции Фисталь. Из трубки слышен оправдывающийся мужской голос. — Значит, никакой срочности нет. Подожди минутку… — Он снимает другую трубку и прижимает ее к плечу ухом, продолжая держать и стационарную. — Куда ты хочешь послать врачей? Они оперируют до сих пор! Посылай тех, кто не оперирует, за лекарством. В конце концов, есть отделения, которые не оперируют! Гинекологи, например. ЛОР! — Звонит третья трубка. — Подождите! — говорит Фисталь в первые две. И положив на стол одну, принимает новый звонок: Наталья Владиславовна, а что это за срочность такая у пациентки Кабановой лететь в Калинина?
Положив наконец все трубки, Фисталь снова обводит нас снисходительным взглядом и произносит: «Спокойно. Все хорошо. Давайте я сам буду этим руководить».
Конец дня середины апреля 2022 года. Институт хирургии
В операционной на Фисталя надевают халат из жесткого желтоватого полотна, которое словно простерилизовали с каплей йода. Такого же цвета простыни покрывают операционный стол. Под ними молодой мужчина, обезболенный спинальной анестезией. На ассистентах из той же ткани халаты. Глаза из-под масок смотрят тревожно, сосредоточенно. Пациент доставлен с фронта. Он способен говорить и отвечает анестезиологу на русском. Его зовут Денис. Но по языку, имени и фамилии невозможно понять, на чьей стороне он воевал. Хирурги предпочитают не спрашивать, чтобы эта информация не помешала им оперировать.
Фисталь наклоняется над раной на бедре. Она узкая, круглая, глубокая, как шахтерский лаз, и на взгляд как будто незначительная.
— Переломаны две кости, — говорит Фисталь. — А что, — он оборачивается, заметив неловкие действия одного из ассистентов, — у нас сегодня новенький?
— Это студент, — говорит второй.
Лоб студента покрывается испариной — он смущен присутствием медицинской величины.
— Ты на каком курсе? — рассеяно спрашивает его Фисталь.
— На четвертом.
В пространстве, пропитанном йодом, перекисью и каким-то особым запахом стерилизованного полотна, начинается работа. В банке темнеет йод, как высокой концентрации забытый чай.
— Ты откуда? — тихо спрашивает анестезиолог Дениса. — Я тоже с тех краев.
Фисталь меняется — внешне он как будто по-прежнему рассеян, но его глаза становятся живыми, сосредоточенными. В руках появляется мягкая сила и уверенность. Он похож на шахтера, глазами нырнувшего в лаз. Концы медицинских ножниц тянут края раны, и она раскрывается.
— А он ничего не чувствует? — спрашиваю я, когда рану начинают зашивать.
— Чувствую, — отвечает Денис.
— И что ты чувствуешь? Ну скажи, — добродушно наклоняется к нему Фисталь.
— Прикосновение, — отвечает Денис.
— Ладно, ребятки, доделывайте, — говорит Фисталь и выходит. — Да, я понимаю, куда вы сейчас будете клонить, — говорит он мне, когда мы идем по коридору. — Не все ли мне равно, кого я оперирую? Так? А я вам так скажу: я всегда оперирую ответственно, это же моя рана. Кроме нее, я ни о чем не думаю. Мне очень важно, чтобы получилось. У меня был свой план операции. Но когда мы раскрыли рану, я увидел некоторые особенности и немного изменил первоначальный план. Я не думал, что там мышца пересечена. Но мы ее отмобилизовали, и результат был достигнут.
— Удовлетворение от операции получили?
— Полное!
— Вот! — Я останавливаюсь. — В марте вы мне говорили, что когда оперируете украинского солдата, не испытываете удовлетворения. Но вы не знаете, чей солдат Денис, — торжественно заканчиваю я, и у Фисталя от растерянности приоткрывается рот.
— Как тебе сказать… — Он тоже останавливается. — Ну, может быть, может быть, Денис — пленный, — раздраженно говорит Фисталь, которому теперь приходится выпутываться из слов, сказанных в апреле и в марте. — Но я все сделал как надо.
— Ну да… А как с удовлетворением быть? Я же видела, что вы его почувствовали…
— Ну и что?! Ну почувствовал, и хорошо! Я спокоен за этого пациента. А кто он… В четырнадцатом и пятнадцатом годах мы их тоже много оперировали. Но тогда не было к ним такого отношения, как сейчас. Сейчас они над нашими пленными издеваются. Это наложило на нас свой отпечаток. Поэтому мы не спрашиваем, откуда он. Я делаю операцию и не хотел бы, чтоб информация о том, кто он и что делал, мне мешала…
Звонит мой телефон — это учителя. Сообщают, что провели в школе уборку, готовы идти с нами к новому руководству ДНР и, может быть, даже писать письмо в Москву — прямо на Путина. Просить не закрывать школу.