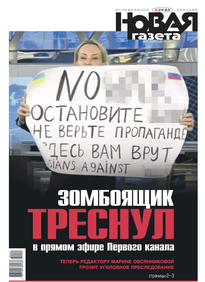Рио, прощай. Мне улетать, а городу — белопесочным пляжам, неунывающим говорливым людям, запахам океана, прели, необычной женской красоты и стати, запахам юнцов с трагическим будущим, их рук, которые уже убивали, гниющим каналам, нагретым камням — дышать полной грудью. И так до скончания веков. По склонам гор мечутся лучи прожекторов, подсвечивает Луна — тут она высокая, и за мое время здесь из дырки на пятке носка превратилась в дыню, а потом в туго накачанный волейбольный мяч.
На Копакабане смешение дикого мертвого богатства и шумной витальной нищеты, темных и пустых высоток на первой линии (ни одна квартира не светится, их лишь приходят проветрить раз в неделю, а хозяева бывают две недели в году) и пестрого сброда на улицах. Бомж говорит тебе в банкомате: «Закрой дверь, не мешай спать». Он прав, зачем тебе в столь поздний час деньги (и ночной лимит — 300 реалов против дневной тысячи, о тебе заботятся). Здесь продают олимпийские медали — не отличишь от настоящих, грабят туристов, но их и любят: мне, заблудившемуся, заехавшему не туда, показывали, куда идти, одновременно 20 пар рук в салоне автобуса. Включая обе руки шофера. Водители, если их отвлечь, вообще тут мало заморачиваются рулем: в 2013-м так рухнул с виадука автобус. Он не остановился по требованию пассажира, тот, потеряв самообладание, перемахнул через турникет — и залепил водиле в ухо. Шофер поднялся ответить — автобус продолжал ехать. Жертв в упавшем автобусе было много: вечерний час пик, а парень тот не пострадал. Вылез, отряхнулся, побежал к своей остановке.
Мне с многоголосыми пожеланиями благополучия, счастья, удачи, «позитивных энергий» двери открывают. Минут через 10 меня догоняет женщина, специально вышедшая под дождь из автобуса на следующей остановке, — чтобы довести по адресу.
А таксисты, спрашивая, откуда ты, неизменно восхищаются Россией. И сразу вспоминают Сталина.
Здесь богатые и нищие районы наползают друг на друга. И не всегда с очевидным финалом: пятизвездочный «Шератон» закрыл под себя пляж, который всегда был пляжем трущобы Видигал. Это была долгая война. Фавела победила, пляж ей вернули. Это непредсказуемость всех портовых городов, резких, отчаянных, самых красивых. (Рио — как Петербург, Москва — Сан-Паулу, главные города человечества всегда в паре.) Въезд по мосту в Рио бесплатен, выезд стоит денег, и многие отсюда не уезжают, это, возможно, единственное правильное решение во всей их никчемной жизни. Здесь полно бездельников, а девушки говорят: «Я встречаюсь только с сёрфингистами». Здесь на рассвете небо красивое, как бензиновая лужа под косыми лучами. И кокосы падают с громким всплеском в грязно-зеленые каналы, и большие серебряные рыбы выпрыгивают из воды аж на метр, и маленькая ящерица с огромными глазами выползает убедиться в рассвете лишь в метре от тебя. От тебя. От тебя, столбенеющего от невозможности такого крутого сложения почти всего, что ты еще ценишь и любишь.
С погодой повезло, Рио мне и тысячам других чужаков помог. Первые дни были прохладные и дождливые. А, как сказала моя стюардесса по Рио Александра Головинская, настоящие местные бандиты — в шлепках, без футболок. И им сейчас не климат высовываться. А когда выглянуло солнце, а оно тут сразу жарит беспощадно, чужаки уже освоились. Рио своей переменчивостью поставлял новости каждый день, дополняя и затмевая новости олимпийские: то, согревшись, налетали комары, то стрекозы какие-то необычно громкие, то рыбы вот начинали прыгать, то чудовищные на вид мотыльки облепляли компьютер и тебя у него, то в твоем районе объявляли внезапный выходной по случаю олимпийских мероприятий в нем, и народ начинал деятельно отдыхать… Олимпиада удачно, не вымученно совпала с Рио. Выглядела производной от него, одной с ним крови, одного стиля. Кариоки, собирающиеся многими тысячами и празднующие свою жизнь, вобрали и Игры. И это живое, ликующее и переживающее море завораживает. В какой-то момент «пробивает»; очнулся, лишь когда глотнул воды, — стоял в парке Мадурейры, под четырехтонными олимпийскими кольцами, смотрел на пляшущее и поющее человечество; кого здесь только не было.
Я это уже видел и чувствовал. Впервые — за 30 лет до этого глотка воды, в июне 86-го. Срывались в любовных судорогах, падали на залитую солнцем траву, фрикции не прерывая. Сотрясались наконец заключительно. И какое-то время, распластавшись, самец опустошенно лежал всей тушей на подруге, не шевелясь, лишь подрагивая. Но нет, вскоре вспархивал и спустя считаные мгновения уже соединялся со следующей. А самка еще лежала неподвижно, впечатанная, но и она собиралась, поднималась, летела дальше — навстречу новым партнерам. Свобода, полигамия — форева! Я был в армии, на полигоне. Нас, солдатню, не замечая, вокруг творилась грандиозная оргия. Дорога в гору, небо из люка виделось, как из китового чрева, и в последние затянувшиеся мгновения только оно было, синее-синее июньское небо, гусеницы висели в нем, без опоры, но вот опустились на вершину всей тяжестью, можно дышать, жизнь потекла вновь. И уже только вниз.
Спустились, вышли на грунтовку, петлявшую вместе с рекой. На обочинах, у луж громадными пятнами белые бабочки: наверное, сотнями. Остановились на поляне за садами. Близ зарослей лесной мелкой малины и жимолости, высокой, изъеденной черемухи. Впереди тек ручей. Здесь белые бабочки с выраженными черными жилками — боярышницы (Aporia crataegi) — порхали уже тысячами. Вылез из пусковой, и огромное синее небо вдруг открылось, и в нем бродили грохочущие бело-черные облака, каждое с континент. Но рай был не там. Сотни, тысячи бабочек — белых с черными прожилками, это всё боярышницы — порхали, любили друг друга, допивая в перерывах ручей и лужи. Их Элизиум открылся в кущах лесной малины. Туда молча и подались оглохшие бойцы. Стоять и глазеть. Это было стыдно, но и оторваться невозможно. Скоро и мы, не только бабочкины самцы, различали самок: позу соития они принимали одну, фемина снизу, спиной вверх, и трепыханием и дерганиями с их крыльев сбивали пыльцу, они становились почти прозрачными, целлофаново глянцевыми. А низ крыльев у многих окрасился алым — возможно, то были не последствия бешенства плоти, а всего лишь следы цветочных трапез.
Капроновых бабочек легко было брать в руки, пока они предавались любви и сразу после нее, неподвижных, почти умерших. Облепили и наши пусковые, были повсюду — на капонирах, на броне, на направляющих, на ракетах, внутри, в боевом отделении. Солдатня курила, молчала, смотрела. У нас, 18-летних, у многих еще и опыта-то никакого не было. Хоть шлемофоны и скинули, пот собирался в струйки и тек ручьями по напряженным шеям, заливал глаза. Было жарко. Самый длинный день тогда был.
Барышни боярышницы… Спустя много лет случайно выяснил: подобные оргии цикличны, и это лишь ритуал, спаривания при этом не происходило (оно вершится иначе, куда вдумчивее и продолжительнее), причины подобного поведения пока не выяснены. Вся любовь оказалась имитацией, обманом, как и кровь — последствие метаморфоза: при выходе из куколки боярышница выпускает из кишечника красноватую каплю — мекониум.
Да, периодически в соответствии с «волной жизни» бабочек снова вижу те же всплески. Мне кажется, через те же 4 года, что между Олимпиадами.
Так уж все устроено: главное не то, кто и что делает, главное — как это воспринимается. Те глаза — как пуговицы, — какими мы смотрели на бабочкино буйство плоти, остались во мне навсегда. Сколько всего было в них. И я тогда уже знал, что запомню это.
А какими глазами смотрят на Игры! Хотя, кажется, уже все всё знают о современном спорте.
Олимпиада — это ритуальные фрикции боярышниц. Бабочки не понимают, что это — имитация, они по-настоящему бьются в тех объемах, что им отпустила природа.
В мире вообще полно имитаций. И это прекрасно. У самцов оленей растут великолепные рога, но они вовсе не для драк. Они — для красоты. Да для турнирных сражений за дам сердца. Впрочем, это тоже лишь ритуал, и серьезно никто никого не ранит.
Да и что в жизни настоящее, а что перформанс? Природе зачем-то нужны все эти представления. И почему-то мало что делает людей счастливее, чем игры, чем древнее: кто — кого. И точно что-то в жизни от этого изменится, смысла больше появится, доброты и жалости… Мы смешные, но нас поздно переделывать. И это — обнадеживает, значит, нас не загнать в антиутопию. Этими ритуалами, пусть глупыми, человечество побеждает страх, побеждает будущее, всех политиканов. А главное — дети-то верят! Сами играют и любят смотреть игры и Игры. И думают: «У меня все впереди, я тоже смогу!»
Это было веселое решение — отправить человека, искренне не понимающего спорт во всех его проявлениях (за исключением разве что футбола, тут и мое сердце не выдерживает), — наблюдать за Олимпиадой. Помню, предисловие к моему сериалу о красноярской мафии — в другом тысячелетии и в другой газете — дали написать кинокритику Валерию Кичину. Это было остроумно. Так вот, со спортом мы враги. Только кашель качает мне пресс. И совсем не бегаю ни от кого. Меряться физическими достижениями мне представляется недостойным человека. А кто любит за тем, как это происходит, смотреть — действительно болеют, во всех смыслах этого глагола. Низводят человеческий дух, воспаряющий порой к горним высотам, до амебного состояния, до писькомерки. Таковы мои заблуждения, но богат ли выбор для моей профессии? Сиди в Отечестве, здесь к выборам как раз время забегов и метания дерьма. Причем удобные такие соревнования, с предсказуемым итогом: в крысиных бегах победит крыса. Так в Рио хоть герои и титаны соревновались.
Хотя и это, конечно, условно. Как почти уже все в нашем мире. Диссертации, партии, суды, да та же моча спортсменов. Все обращается в бизнес и шоу, в разводки спецслужб… О, спорт, ты благородство. Покойный барон Кубертен вращается пропеллером. Но планета-то радуется и плачет! Что там, временами бьется в истерике. Уже одна искренность этих эмоций многое извиняет. Сказано же: будьте как дети. Смотрим же мы кино и искренне переживаем. Хотя в курсе, что — сказка. Да и сами фармсверхчеловеки (прежние гладиаторы) губят себя, свое здоровье сознательно.
Это бессмысленно — причитать, почему человечество, огромная его часть, во всяком случае, вкладывается в спортсменов, а не, допустим, в философов или поэтов, игроков в покер или филателистов. Почему атлеты получают деньги за то, что тешат свое тщеславие, за занятия, нравящиеся им, но не представляющие никакой общественной пользы. Миллиарды в спорт высших достижений — вместо детских спортплощадок, образования, науки и медицины — кажутся аморальными. Ну так а когда государственные, публичные деньги расходовались разумно? Замечательно уже лишь то, что это инвестиции не в массовые убийства.
Допускаю, что мне просто не дано, и со своим вопросом: «А на хрена все это нужно?» — я тривиально туплю. Им, держателям общака, конечно, виднее. Носить перстни, усыпанные бриллиантами, на пальцах с грязью и засохшей кровью (чужой) под ногтями — тоже позиция. Наши знания о мире поверхностны и относительны, мы просто не понимаем, что для нас хорошо. И в соревновании за мировое господство важен именно спорт, а не медицина-образование-наука.
Ведь что такое предмет «история» в школе? История людских глупостей и зла. Изучают не тех, кто улучшал жизнь уже лишь тем, что не вносил в нее ничего от себя, а великих завоевателей и тиранов. Современные правители — в курсе. И мое личное неприятие спорта вовсе не отменяет понимания, зачем он. Он и Олимпийские состязания — необязательные вроде вещи, но без них не обойтись. Как, например, дети. Есть семьи детоцентричные, есть, где к ним относятся ровно и жизнь ради них не кладут (посмотрите, как участвует в Играх Индия).
Дети, помимо прочего, даны нам, чтобы на них пар выпускать. Поорать, слова пафосные и смешные поговорить, телячьи нежности опять же. Мы же, воспитанные и образованные, и друг по отношению к другу редко такое позволяем. Дети нам даны, чтобы мы не забывали, что такое любовь и привязанность ни почему и ни зачем, чтобы не загрызли друг друга. Ты одинок в мире, в толпе. Тебе надо стравливать завод.
Это то ли полярная болезнь, то ли лагерная: когда, чтобы не убивать того, кто рядом, спасти его от себя, выходишь, идешь и разбиваешь по возможности что-нибудь громкое, на тысячу осколков. Что — не имеет значения. Олимпиады — это вариант выплескивания бешенства, скапливаемого человечеством.
Ну и, разумеется, дело в триумфальном вопле, который может издать самец, торжествуя над поверженным противником, — об этом писал, анализируя внутривидовую агрессию животных, Конрад Лоренц. Поединки между серыми гусями за самку кажутся явно избыточными. Так и есть: победа для самцов важнее приза. Это не хорошо и не плохо, это данность. Мы с этим ничего поделать не можем. Но в состоянии отдавать себе отчет, когда слышим марш или гимн: шимпанзе тоже производят ритмический шум, когда подстрекают друг друга к совместному нападению. «Подпевая, мы протягиваем палец дьяволу».
Именно поэтому кажутся глупостью предложения отменить национальные гимны при награждении на Играх и парады под государственными знаменами. Пусть бы все, дескать, шли под олимпийскими, пусть бы соревновались личности, а не государства. Ну да, и еще вручать медали представителям фарминдустрии и офицерам спецорганов.
Действительно, для всех было бы лучше, если б мы были патриотами не своих стран, а всей планеты, но это неисполнимо. И все в Олимпийских играх правильно, все должно остаться в патриархальном формате. Человечество разделено, и структурировано, и наделено разными флагами и гимнами именно затем, чтобы создавать раздражающую ситуацию, необходимую для разрядки социальной агрессии. Такой вывод можно сделать из наблюдений за животными того же Лоренца.
Так получилось. Так все под луной устроено. Странам нужно посоревноваться, люди любят химеры и игры. Этот цикл запущен неизвестно когда: в местах скоплений боярышниц на кронах деревьев периодически случается так много красных выделений, что дожди протекают сквозь них, как кровь. Бабочек древние римляне называли «feralis» — «свирепая», «пагубная». Чрезвычайное их размножение предвещало войну.
Помнящие последнюю большую войну — уходят.
Столько красоты в этих бабочках, энергии, хитрых каких-то ритуалов — ради чего? Ведь можно было природе обойтись экономнее. Но нет, показательно беспричинная и краткая красота ни для чего.
Мир в этом нуждается. Мир откровенно, подчеркнуто несправедлив, и, когда в старых добрых формах вершится равная борьба по единым правилам, — это нужно всем.
Благодарю принявшую меня комунидадже острова Жигойя. В том числе за подтверждение известного: новостям и политикам верить нельзя, можно — людям. Дух свободен, хочу повторить я за Гегелем, летает, где хочет. И его в фавелах поболе будет, чем в мертвых резиденциях первой линии. А мифы о себе они поддерживают лишь потому, что в их жизни есть нечто ценное, а потому скрываемое. Пугают и рассказывают небылицы они, видимо, специально — чтобы не сглазить. Спасибо за оптимизм Уильяму, он меня подвозил. Ему 50, его только что уволили с должности «помощник библиотекаря». И он собирается поступать в университет. Говорит: дочь наконец выучилась на медсестру, и ему теперь пора — на исторический. (Здесь очень много таких, возрастных, студентов. В фавеле, где жил, есть граффити: «Если жизнь начинается только в сорок лет, зачем мы появляемся на свет так рано?») Спасибо за жизнелюбие бывающему одновременно в нескольких пабах реставратору картин сеньору Фернандо.
Спасибо моей стюардессе в Рио и референту по самбе Александре Головинской, без нее растерялся бы. И Пабло Эрнану Рапетти — за выход из людской гонки. За то, что в городе, над которым раскинул руки Сын Человеческий, Пабло не хочет быть первым, и он следует Ему, не видя разницы между альфой и омегой и не участвуя в ранговой борьбе.
Скажу на прощание, Рио. Ты настоящий, без дураков, и праздник получился человеческий, без пафоса, фальши, без лжи и политики (если только чуть-чуть). И еще я понял: чтобы не стареть, надо постоянно лететь на самолете на запад, возвращаясь во вчера. И делая ненадолго остановку в Рио. Спасибо, что ты есть, с тобой веселее.