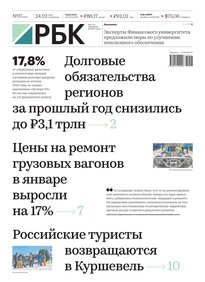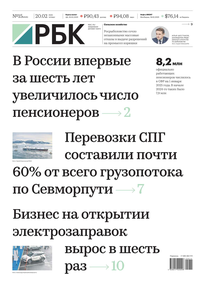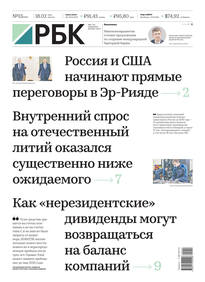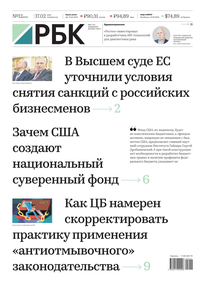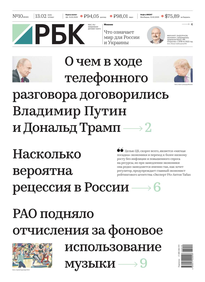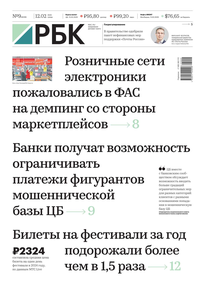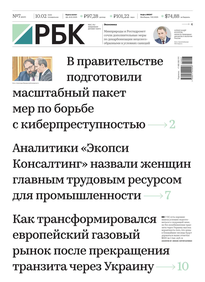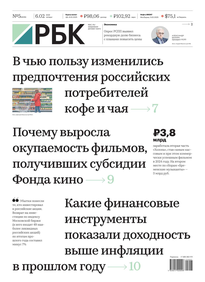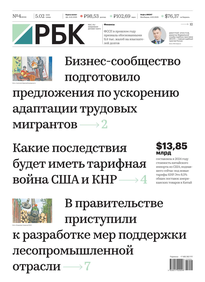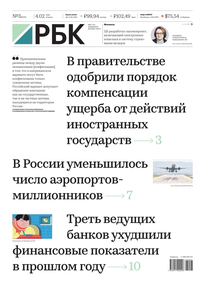Чтобы обеспечить «удовлетворительное» пенсионное обеспечение, необходимо целенаправленно повышать уровень зарплат бюджетников и вовлекать в страховую систему новых плательщиков — из неформального сектора. К такому выводу пришли профессора Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Юлия Долженкова в монографии «Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития», которую изучил РБК.
Кроме того, выгодным для бюджетной системы будет вовлечение пенсионеров в занятость — тренд современного рынка труда, набирающий обороты в условиях «стареющего общества», полагают эксперты. По их оценке, действующий уровень пенсионного обеспечения в России недостаточен: несмотря на проведение пенсионной реформы, лицам, получавшим низкие зарплаты, пенсии не обеспечивают удовлетворение базовых потребностей, а гражданам с высокими зарплатами выплаты не компенсируют утраченный заработок в необходимой мере.
Пойти на такой шаг правительство заставила ситуация с трудовыми ресурсами: доля работающих людей «становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше», говорил на тот момент глава правительства Дмитрий Медведев, и это могло привести к «разбалансировке пенсионной системы — вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства». Только при повышении пенсионного возраста можно было «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам», отмечал он. В 2017 году (в год перед объявлением реформы пенсионного возраста) страховые взносы с зарплат работающих граждан покрывали только 68% выплат страховой пенсии (по данным отчетности Пенсионного фонда), государству приходилось закрывать дисбаланс за счет трансфертов из федерального бюджета.
Демографические изменения, которые снижают число плательщиков страховых взносов относительно получателей пенсий (вследствие снижения рождаемости и роста продолжительности жизни), — мировой тренд, который приводит к разбалансированности пенсионных систем, указано в монографии. Повышение пенсионного возраста — «наиболее простой и наиболее часто используемый» прием для достижения баланса.
Росстат прогнозировал, что за 15 лет (2016–2031 годы) численность населения России в трудоспособном возрасте уменьшится в зависимости от варианта прогноза на 3–7 млн человек, при этом количество граждан в пенсионном возрасте будет расти, следует из монографии. Актуальная версия демографического прогноза статслужбы, охватывающая 2024–2046 годы, предполагает аналогичную тенденцию: рост численности населения в возрасте старше трудоспособного на 2,8 млн человек и сокращение количества граждан трудоспособного возраста на 4,9 млн человек в среднем (базовом) варианте. Доступные трудовые ресурсы России за 2022–2024 годы, помимо связанных с военными действиями на Украине, сократились примерно на 2 млн человек в силу демографии: на пенсию ежегодно уходило значительно больше людей, чем вышло на рынок выпускников школ, колледжей и вузов, написал в недавней колонке на РБК экономист Михаил Задорнов.
По состоянию на 1 января 2025 года в России насчитывалось 41,17 млн пенсионеров, их число за год увеличилось на 94 тыс., или 0,2%, писал РБК. Без повышения пенсионного возраста их было бы приблизительно на 5 млн больше, оценивает демограф Игорь Ефремов. «А если бы пенсионеров было больше, то мы не можем предположить, насколько хватило бы ресурсов федерального бюджета и/или резервного фонда. Теоретически можно было бы сохранить пенсию на нынешнем уровне, но тогда, соответственно, должны были бы вырасти трансферты в Социальный фонд», — указывает он.
При этом, по мнению Ефремова, с точки зрения демографии повышение пенсионного возраста для женщин было назревшим. Для мужчин же можно было оставить 60 лет, как было, либо повышать более плавно — на один-два месяца в год, так как средняя продолжительность жизни мужчин в России примерно на десять лет меньше, чем у женщин, полагает эксперт.
Пенсии и инфляция
Авторы монографии рассмотрели динамику размера пенсий с 2013 по 2023 год и пришли к выводу, что, хотя в номинальном выражении пенсии непрерывно увеличивались, им не всегда удавалось обогнать инфляцию. Кроме того, индексация по уровню инфляции носит компенсаторный характер: индексируется падение реальных доходов пенсионеров за предшествующий период, отмечается в работе. «Это означает, что сразу же после дня индексации новый виток инфляции снова снижает реальное содержание пенсии», — поясняют Сафонов и Долженкова.
К примеру, из-за того что в 2016 году удалось проиндексировать пенсии только на 4%, а темпы инфляции за предыдущий год составили 12,9%, до 2021 года, несмотря на превышающие инфляцию темпы индексации, наблюдалось снижение реальных размеров пенсий, указывают они. В начале 2017 года правительство осуществило единовременную выплату пенсионерам, чтобы компенсировать недоиндексацию пенсий 2016 года.
При этом сокращение реальных пенсий, возможно, было более значительным, чем отражалось в статистике: расчеты реальных доходов пенсионеров на основе общего индекса инфляции не дают корректного результата, считают авторы. «Общий индекс инфляции не совпадает (он значительно ниже) с индексом роста цен по товарным группам, которые в структуре реального потребления пенсионеров занимают основное место. Более точным был бы расчет по индексам роста цен на лекарственные препараты, основные продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, которые в потребительском бюджете пенсионера занимают подавляющую часть», — отмечается в монографии.
Уровень замещения утраченной зарплаты
Сегодня, говорится в монографии, «для лиц, получавших в процессе трудовой деятельности низкие зарплаты, пенсии выполняют роль замещения заработка, но их уровень крайне низок для удовлетворения жизненно важных потребностей». В то же время у россиян, кто получал зарплаты выше среднего, «пенсии существенно превышают прожиточный минимум пенсионера, но их уровень столь низок относительно размера заработной платы, что не может рассматриваться как страхование ее утраты».
Коэффициент замещения утраченного заработка, рассчитывающийся как соотношение среднего размера пенсии и средней начисленной зарплаты, за минувшие десять лет находился на уровне 24,6–33%, следует из представленных в работе расчетов. Это ниже уровня 40%, который признается Международной организацией труда как показатель качества пенсионной системы.
Кроме того, за период с 2013 по 2023 год средняя пенсия составляла лишь 1,6–1,7 прожиточного минимума пенсионера. При этом следует учитывать, что более 6 млн пенсионеров (или 14,6%) получают социальные доплаты к пенсии для достижения прожиточного минимума, указано в монографии.
Прожиточный минимум пенсионера в целом по России в 2025 году составляет 15 250 руб., однако региональные величины могут быть как ниже, так и выше федеральной. Они варьируются от 12 657 руб. (в Липецкой области) до 39 803 руб. (в Чукотском автономном округе). В 2024 году средний размер назначенных пенсий составил 20 964 руб., в реальном выражении они сократились на 0,8% относительно 2023 года, следует из данных Росстата.
Предлагаемые изменения
«Проведенные расчеты показывают, что при имеющемся количестве плательщиков страховых взносов, сложившемся уровне зарплат и страховом тарифе невозможно удовлетворительное пенсионное обеспечение», — констатируют Сафонов и Долженкова. Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, по мнению авторов работы, необходимо:
целенаправленно повышать уровень заработной платы основной массы работников, прежде всего бюджетников, поскольку именно они составляют значительную долю занятых с низкой заработной платой на формальном рынке труда;
увеличивать сборы страховых взносов за счет вовлечения в страховую пенсионную систему новых плательщиков из неформального сектора.
Авторы монографии указывают, что неформальный рынок труда (под ним понимается сегмент занятых, с зарплат которых не отчисляются страховые взносы, то есть теневой сектор, а также самозанятые) в настоящее время занимает заметную долю в экономике. По их подсчетам, основанным на официальной статистике Росстата, наиболее высокая доля занятых в неформальном секторе в последние годы наблюдалась в 2019 и 2021 годах (17,4%), в 2023 году этот показатель опустился до отметки 15,6%.
Ранее пенсионеры были заинтересованы работать неофициально или не работать вовсе: отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в 2016 году усилил переток рабочей силы на неформальный рынок труда, а также увеличил число отказов пенсионеров от трудовой деятельности, отмечают авторы монографии. Это негативным образом сказалось на уровне отчислений страховых взносов с заработков данной категории граждан в пенсионную систему. Впрочем, с начала 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась. На этом фоне уже в 2024 году их число выросло на 343 тыс. человек, писал РБК.
Не менее негативным явлением именно для пенсионной системы, считают Сафонов и Долженкова, стал эксперимент по введению статуса самозанятых. Этот правовой институт «не предусматривает вообще формирование каких-либо пенсионных прав и не создает потоки страховых взносов в пенсионную систему», указывают авторы. При этом самозанятые могут формировать пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Социальный фонд России. Как сообщал в начале февраля заместитель председателя Соцфонда Александр Чернышев, более 1,5 млн самозанятых россиян (из 12 млн, по свежим данным Федеральной налоговой службы) уже сформировали права на получение страховой пенсии.
Плюсы и минусы сокращения неформальной занятости
Теоретически вовлечение в страховую пенсионную систему новых плательщиков из неформального сектора кажется хорошей идеей, говорит ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок. «Однако такая политика чревата высокими рисками. Одна из наиболее привлекательных для неформальных работников сторон налога на профессиональный доход — низкие ставки. При введении обязательных страховых взносов существуют высокие риски, что такие работники снова уйдут в тень», — говорит эксперт.
Также, по его словам, пока не найден качественный инструмент добровольного вовлечения населения в страховые пенсионные отношения: во многом это связано с тем, что финансовая система России отличается высокой волатильностью, а доля сбережений у населения остается достаточно низкой.
Возможности привлечения работников из неформального сектора ограничены, считает замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. «У нас не настолько большой сегмент неформальной занятости, а тот, что существует, выгоден и бизнесу, и работникам», — пояснила она.
Более того, по мнению Синявской, никуда не деться от того факта, что структура занятости меняется во всем мире в сторону сокращения занятости по найму. «Везде увеличивается доля нестандартной занятости, растет самозанятость, платформенная занятость. И к этим процессам система социального страхования, разработанная для обществ массовой индустриализации, не готова», — убеждена эксперт.
Для сбора пенсионных взносов с работников из неформального сектора может работать только сочетание стимулирующих и ужесточающих мер, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. «Как вариант, например, продекларировать, что те, кто не будет делать взносы в указанных размерах, получат только социальную пенсию, то есть позже и меньше. Но это должно декларироваться заранее, чтобы потом не стать социальной проблемой», — отмечает Табах.
Разные инструменты ужесточения уже использовались, отчасти сработали, но позитивная мотивация могла бы сейчас быть более эффективной, добавляет Синявская. «Здесь многое упирается в низкий размер пенсии, который, по мнению трудоспособного населения, не стоит того, чтобы ради него отказываться от преимуществ альтернативных форм занятости», — отмечает она.
Замещение дефицита кадров пенсионерами
«Вовлечение пенсионеров в занятость станет основным трендом в условиях стареющего общества. России было бы неоправданной роскошью отказываться от столь качественной рабочей силы только лишь потому, что энергетика пожилых людей уступает молодым», — пишут Сафонов и Долженкова. С отсылкой на статистические данные авторы монографии указывают, что сегодня начиная с 50 лет уровень занятости лиц старших возрастов в России начинает резко падать:
в 50–54 года она составляет 80%;
в 55–59 лет уже 58%;
в 60 лет работу имеют только 18% граждан;
после 70 продолжают трудиться лишь 1–2% пенсионеров.
Пожилые работники являются важным ресурсом занятости в условиях стареющего общества, и преодолевать существующие стереотипы в отношении возможностей привлечения их к разнообразным задачам важно, согласна Синявская. Но решить проблему дефицита кадров на рынке труда только лишь за счет этого невозможно, добавляет она.
«Отчасти положительную роль в увеличении занятости именно пенсионеров может сыграть возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, но прочие ограничения — здоровье, внуки, стереотипы, реальная нестыковка квалификации работников старших возрастов и потребностей современного рынка труда — никто не отменял», — подчеркивает Синявская. Численность лиц старшего возраста меньше, чем дефицит на рынке труда, поэтому надо искать резервы замещения труда автоматизацией и способы повысить производительность, а также привлекать мигрантов, перечисляет эксперт.
Все стареющие общества решают проблему нехватки трудовых ресурсов именно так (за счет привлечения на рынок труда пенсионеров. — РБК), отмечает Табах. И других способов обеспечить приемлемый уровень дохода у пожилых граждан, помимо больших пенсионных накоплений на частном или государственном уровне (как в той же Норвегии), нет, добавляет он. Накопительный вариант пенсии при этом, по словам Табаха, актуален только для самых богатых обществ. С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) — добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с поддержкой государства (на счет ПДС можно перевести в том числе средства пенсионных накоплений и получать софинансирование взносов, а также налоговый вычет). По состоянию на конец 2024 года в программе участвовали 2,4 млн граждан, совокупный объем вложений составил 171 млрд руб.
Все большее присутствие пенсионеров на рынке труда — реальность, подчеркивает Табах. «Причем в некоторых секторах на старших работников есть более высокий спрос, потому что молодежи сейчас слишком мало, молодые сотрудники слишком востребованны и этим, можно сказать, избалованы», — отмечает эксперт. Работодатели свое отношение к пожилым работникам постепенно меняют, но это зависит от сектора, профессии и пр., указывает Синявская. По ее словам, охотнее всего пожилых работников берут в бюджетный сектор, который проигрывает коммерческому по зарплатам.
В целом же сегодня назревает вопрос, насколько устойчивы пенсионные системы, базирующиеся на взносах с расходов на оплату труда и пенсиях, привязанных к стажу, размышляет Табах. «Но пока это вопрос теоретический, потому что нынешним пенсионерам и людям старшего возраста уже были даны гарантии от государства», — резюмирует эксперт.