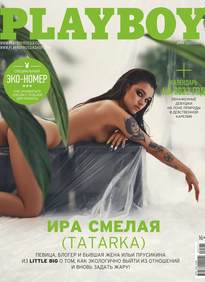По такому случаю музыканты отправляются в мировой тур, а в издательстве «Эксмо» выходит книга Максима Семеляка «Ленинград. Невероятная и правдивая история».
Предлагаем вашему вниманию ее фрагмент.
Был 99 год. Время, зажатое Сергеем Шнуровым за яйца, было не то чтобы захватывающим — скорее податливым. В равной и ни к чему не обязывающей степени оно располагало и к неимоверному кайфу, и к маленьким чудесам. Время само по себе ничего не предлагало, оно велось. Никакого очевидного драйва в воздухе не витало, но его можно было изобрести и навязать. Публика, не имевшая тесных экономических связей с окружающей реальностью, оправилась от кризиса быстро.
Уже к лету 99 года вышеуказанной публике в Москве стало более-менее ясно: нового андеграунда не предвидится, а будут, напротив, и клубы, и журналы, и рестораны, а также некоторые деньги; следовательно, опять надо приниматься за работу, которая, к вящему восторгу многих, едва не отменилась вовсе в кризисном августе. Впрочем, память о том, что решительно все может рухнуть в любой момент, была жива, и мозг покалывало ощущение торопливого наплевательского праздника. Под него не хватало нужной музыки, однако ждать ее было неоткуда. Группа «Аукцыон» плавно и надолго входила в стадию «Волков-трио».
«Мумий Тролль» кокетливо и оглушительно объявил о своих последних концертах. Вообще, в тот год все так или иначе воспевали бесперспективность в разных ее проявлениях. Федоров пел, что не будет зимы, Лагутенко щегловито постулировал отсутствие карнавала, только-только появившаяся Земфира огорошивала рассудительным: «А у тебя СПИД, и значит, мы умрем». Летов вообще ничего не записывал и только изредка наезжал с полуопальными концертами в окраинные московские кинотеатры и питерские клубы типа «Полигона». За приблизительно бодрые и относительно свежие группы могли сойти разве что «Нож для фрау Мюллер» и «Дочь Монро и Кеннеди», но им от рождения не хватало размаха.
Были еще попытки мелкомасштабных и обтекаемых прорывов вроде «Михея и Джуманджи» или группы «Маша и Медведи», им даже платили какие-то резонные деньги (приблизительно 3000 долларов за выступление), но все это было очень временно, к тому же главный хит «М и М» про Любочку с ходу обвинили в плагиате, расслышав в нем какую-то тему из Radiohead. Весь город был завешан транспарантами, на которых белым по красному печатались воззвания вроде «Чай, кофе, потанцуем?» — рекламировали новый журнал с неброским названием «Афиша».
Однако даже и в этом журнале, вроде бы взявшем моду формировать события, с музыкой творилось что-то невообразимое: печатались панегирики группе «Тайм-аут» и «Ва-банку», на обложку ставили Паштета и Максима Покровского, в общем, как пела совсем потерявшаяся к тому времени группа «Аквариум», — «того ли ты ждал, о-ё?». Пелевин в тот год сочинил «Generation П» — книгу, состоящую, казалось, из одних лишь острот. В «Ролане» демонстрировали очередного Кустурицу — беспечную комедию «Черная кошка, белый кот», после которой все вокруг окончательно зациклились на цыганах и их подозрительной музыке. Водка «Гжелка» стремительно утрачивала свою популярность — вслед за главным своим пропагандистом, президентом Ельциным.
Песни были не то вопли отчаяния, не то следствия одичания; любовный экстаз мартовского кота пополам с сумасшедшинкой мартовского зайца
Прощальным фортелем ельцинской эпохи стал фестиваль разнообразных и небесспорных искусств «Неофициальная Москва» (питерская версия называлась «Неофициальная столица»). Эта безобидная антилужковская кампания на некоторое время создала довольно убедительную иллюзию какой-то объединенной жизни. Тут и свердловский акционист Александр Шабуров, впоследствии прославившийся с проектом «Синие носы»; и жовиальный тюменский верзила по прозванию Ник Рок-н-ролл; и четверка столичных лодырей «ПГ», чья идеология ограничивалась пропагандой безделья, регги и легких наркотиков; и газета «Отечество не выбирают», и еще бог весть что, включая группу «Ленинград», которая уже подготовила ту самую роковую программу под странным названием «Мат без электричества».
С нее-то все и началось.
Эта буря в стакане водки служила одновременно и отповедью, и проповедью — в интонациях певца уживались как забавник, так и «еще один вселенский отказник». Уличный говор неплохо сочетался с кубинской осанкой песенок, а клиническая срамота — с трогательным самоедством. Песни были не то вопли отчаяния, не то следствия одичания; любовный экстаз мартовского кота пополам с сумасшедшинкой мартовского зайца. Ликование мешалось с терзаниями: «Я так устал, я так измучен, в моей душе десяток ран, я плачу, как м***к последний, целую батареи кран».
Дудки «Французской помады», самой первой песни, напоминали потревоженную в ночи сигнализацию малобюджетного транспортного средства, от их тревожного воя было не укрыться. Пластинка в целом походила на тост — болезненно бравый, столь же патетический, сколь и самоуничижительный. Тост был свинский, но не жлобский. В потенциальном переводе на столовый жаргон он звучал бы скорее так: чтоб х** стоял, а денег не было. Редко когда самые основы жизни понимались столь превратно. И редко когда подобная превратность приводила в столь отчетливый восторг. Виктор Шкловский где-то заметил, что одни художники в искусстве имеют обыкновение проливать кровь, другие — семя, а третьи — просто мочиться.
«Ленинград» был заточен под три занятия одновременно, вероятно, поэтому в отечественном рок-н-ролльном кагале так и не появилось группы проще и натуральнее. «Мат без электричества» был достаточно странно, не сказать скверно, записан, что только добавляло ему лишней прыти. По замыслу Жана Кокто, дилетантизм уже сам по себе преступление перед обществом, а оно в данном случае как раз и было необходимо. Шнур пел не слишком уверенно, и этот обыденный конфуз неумехи действовал как наркоз. На записи хорошо слышно, как человек сам удивляется тому, что несет в микрофон. При этом в песнях чувствовалась такая упоительная гортанная гордость («ЭТО ПРО МЕНЯ!» — вот, конечно же, главная строчка пластинки), что не возникало ни малейших сомнений: тип, их записавший, точно поет по утрам в клозете. Как-то в гостях мы оказались у магнитофона, бесперебойно транслировавшего искомый «Мат без электричества», в компании Александра Тимофеевского. Шуре пришлось прослушать пару песен, после чего он задумчиво произнес: «Знаете, я понял, в чем тут дело, ему же ведь просто нравится произносить эти слова: х** и п***а, х** и п***а, х** и п***а». Так оно, в сущности, и было. Тем не менее something stupid1 за считанные секунды превращалось в something else2. Шнур, разумеется, мог бы повторить вслед за Челентано: «Инстинкт — вот моя поэтика».
А с другой стороны, мог бы этого и не делать, поскольку рациональной жесткости ему тоже было явно не занимать. При всех засвеченных на альбоме глупостях эффекта «дурной славянской башки» совершенно не возникало. В этой пластинке была смешная, но железная логика — в том числе и музыкальная. «Мат без электричества» был напрочь лишен этой паскудной заливистости духовых инструментов, которая была столь характерна для местных групп, укомплектованных схожим образом.
С этим человеком хотелось — совершенно по-сэллинджеровски — познакомиться, причем желательно быстрее
Дудки не петляли попусту, они выполняли чужую и вполне черную работу (были вместо гитар), оттого звучали сдержанно и правдиво. Пение тоже обошлось без унизительной задушевности, поскольку душа этого автора-исполнителя слишком явно была не на месте. С пластинки «Мат без электричества» началась подлинная история Сергея Шнурова. (Само название альбома невзначай соответствовало кличке солиста: шнур, электричество etc. И жизнь из этой записи выплывала сама собой, на простых и необсуждаемых основаниях, словно электричество из бытовой розетки.)
Дело было вовсе не в соперничестве с Игорем Вдовиным, не в том, кто как пел — лучше, хуже, ярче, глуше. Дело в том, что, когда люди впервые слышали альбом «Пуля», они, как правило, спрашивали: «Что это играет?» Когда люди впервые слышали альбом «Мат без электричества», они обыкновенно интересовались: «Кто это поет?» С этим человеком хотелось — совершенно по-сэллинджеровски — познакомиться, причем желательно быстрее.
Мне тоже этого хотелось. Даже несмотря на то, что мы уже, в общем-то, были знакомы — встречались зимой 98 года в первом «ОГИ», потом еще где-то, потом еще что-то. В те разы у меня совершенно не укладывалось в голове, что невысокий круглоголовый парень в псевдовоенном свитере и с нелепой, похожей на запятую бородкой, фактически мой ровесник (Шнур старше на год и пять месяцев, он родился 13 апреля 73 года), окажется способен на такие слова и вещи. Здесь был с ходу заманифестирован основной принцип «Ленинграда» — не важно, как петь, не важно, что петь, не принципиальна музыка и не в словах дело.
По-настоящему важна только одна, точнее, две вещи: абсолютная точность фантазии и языка. Никакой специальной «правды жизни» там, разумеется, не было. «Мат без электричества» со всеми своими словесными и ритмическими ненормативами был подчеркнуто художественным произведением (бесчисленные цитаты только усиливали условность спетого), настоящим спектаклем, а не реалити-шоу. В определенном смысле «Ленинград» был иллюзией еще почище того же «Аквариума», потому что из нее вообще не хотелось выкарабкиваться.
Пока все кругом деликатно цитировали, Шнур просто присваивал. Индульгенцией ему служила собственная неподражаемая интонация — точно так же, как в свое время Аркадию Северному. Наиболее обезоруживающим плагиатом был, разумеется, «Дикий мужчина» — проигрыш вчистую снят с песни The Tiger Lillies. Впрочем, имелись и несколько более засекреченные цитаты — Шнур только недавно признался мне, что свой коронный номер «Шоу-бизнес» он написал под влиянием арии старухи Шапокляк («хорошими делами прославиться нельзя»).
Под его музыку вполне можно было, согласно расхожей установке, «все прое**ть»
Шнуров производил подобные транзакции непринужденно — и музыка поддавалась ему с благодарной легкостью. Впрочем, этого следовало ожидать от человека, который одно время профессионально копировал картины Брейгеля. С возникновением «Мата без электричества» у «Ленинграда» стала складываться вполне осмысленная аудитория. При всей матерщине «Ленинград» совершенно не нуждался в возрастном цензе — дети и юношество к этой музыке не слишком тянулись. Никто не писал слово «Ленинград» на стенах, это была музыка для старших. В Шнуре, которого мало кто тогда знал, все чаяли видеть как минимум сорокалетнего. Под его музыку вполне можно было, согласно расхожей установке, «все прое**ть».
Однако сама конструкция фразы уже предполагала наличие этого «всего», то есть определенную зрелость. «Мат без электричества» обладал той редкой силой по-настоящему простой музыки, в которой нельзя услышать что-то «свое». Слышно было ровно то, что в ней заложено, не более. Она не оставляла простора для размышлений и интерпретаций. В довершение всего, в «Ленинграде» напрочь отсутствовали юродство и «метафизика», всегда бывшие отличительной чертой местной алкогольной письменности и звукописи — от «Москвы — Петушков» до «Звуков Му».
Шнур никак этот аспект не эксплуатировал. Ничего в духе «ангелы Господни, слышите ли вы меня» на альбоме не было, слава тем же ангелам. Все было просто, пусто и складно: «Я люблю пиво, я люблю водку, я люблю баб и жирную селедку, я не люблю твоих французских булок, я алкоголик, е****й придурок». Лирика Шнурова была одновременно и физикой. В «Мате» с его ходовой лирикой и ходячими присказками, конечно же, клокотали низость, глупость и где-то даже мерзость. Зато энергия, которая выделялась от трения со всем вышеуказанным, шла строго снизу вверх. Причем достаточно высоко вверх. Если верить Честертону, то беззастенчивость — признак прогресса. В нашем случае он был налицо.