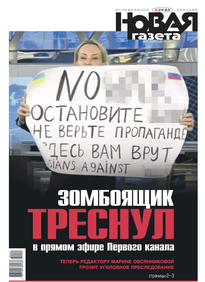Мы отважились написать эту книгу, когда поняли — невозможно смириться с тем, что в наше время в нашем мире существует АД площадью в 120 миллионов квадратных километров, в котором страдают более 20 миллионов живых человеческих существ. Еще труднее смириться с тем, что во всем остальном мире их человеческие собратья либо вовсе не знают об этом, либо знают лишь понаслышке.
Да, в мире есть немало мест, где люди гибнут из-за войн, различных конфликтов, голода, болезней. Но там у каждого человека есть хотя бы теоретическая возможность бежать от происходящего ужаса в более благополучную страну или область. За такую попытку его не расстреляют и даже не посадят в тюрьму.
У северных корейцев такой возможности нет. Все они — рабы, приговоренные правящим режимом и господствующей идеологией к пожизненной каторге. Тяжесть этой каторги зависит от места в жесткой социальной иерархии, но ни для кого она не бывает легка. Легального способа вырваться из этого огромного лагеря не существует, можно только бежать. Но неудача оборачивается либо пытками и смертью, либо пытками и медленной гибелью в самом низу лагерной системы.
Сегодняшняя КНДР — заповедник, последний бастион сталинизма, свидетельство того, что ГУЛАГ может жить посреди мира интернета, электронных денег и прозрачных границ.
Сталинизм, о котором лучше Солженицына и Шаламова написать невозможно, не ушел в историю — он реинкарнировался на Корейском полуострове.
За последние 30 лет в России о сталинизме, казалось, было написано, рассказано и показано все. Тем не менее он жив не только в КНДР. Он живет, вызывает симпатию и ностальгию в головах огромной части наших сограждан. Он пропечатан в генетическом коде. Люди тоскуют по «сильной руке». От фактов и цифр отмахиваются, приписывая к «ошибкам» и «перегибам», самый распространенный довод: «время было такое».
Эта книга — предупреждение. Сегодня время другое, но северокорейский режим доказывает — для сталинизма любое время «такое». У «сильной руки» не бывает ошибок и перегибов, у нее нет других ценностей, кроме «наведения порядка» — ценой жизни и свободы граждан.
Сталинизм жив и может вернуться к нам в любой момент. Эта опасность будет висеть над нами до тех пор, пока мы не перестанем обманывать себя и не осознаем — в нашей истории были преступные десятилетия себяубийства. Великая Победа, путь «от сохи к атомной бомбе», достижение всеобщей грамотности не могут ни объяснить, ни оправдать одно из самых страшных преступлений в истории человечества — сталинизм.
Герои этой книги — литературные персонажи, но в ней нет ни одной выдуманной истории. Все факты и обстоятельства, описанные здесь, имеют документальное подтверждение.
* Екатерина АРБАТОВА — телевизионный продюсер, автор ряда документальных фильмов и социальных телепрограмм, автор идеи и руководитель проекта «Приговор» о проблемах узников российских исправительных учреждений.
Дмитрий КОНЧАЛОВСКИЙ — тележурналист, корреспондент и шеф-редактор телекомпании «ВиД». Автор репортажей и документальных фильмов о горячих точках: Чечня, Таджикистан, Афганистан. Автор романа «Безумие» (ЭКСМО, 2007 г.), в основу которого положен личный опыт командировок в Чечню.
2004 год. 70 км к северо-востоку от Пхеньяна.
— Эй ты, сука, так дело не пойдет, — коренастый охранник со сросшимися бровями, с трудом выдирая ноги из вязкой земли, подошел к ней вплотную.
Она рухнула на колени, низко опустила голову, прошептала:
— Простите, начальник, я… я не совсем здорова.
— Что ты сказала? Я не расслышал, — охранник нагнулся к ней, ласково опустил руку на плечо, — ты не совсем здорова?
— Да… простите… я буду стараться…
Он выпрямился, посмотрел по сторонам. Десятка два женщин, находившихся поблизости, прекратили работу и равнодушно наблюдали за развитием событий.
— Она не совсем здорова, все слышали? – Он обвел внимательным взглядом молчаливых зрителей, грустно покачал головой, сжал кулак и с размаху снизу вверх ударил ее в лицо. Она упала на спину в мокрую жижу.
— Вставай, сука, вставай на колени, нечего валяться тут, разлеглась, тварь.
Она перевернулась на живот, подтянула ноги, встала на четвереньки, попыталась грязной рукой унять кровь, лившуюся из носа. Следующий удар был ногой, по ребрам. Она рухнула разбитым лицом в грязь и больше не шевелилась.
— Как работать, так не совсем здорова, а как жрать, так здоровее всех? — он пнул ее сапогом в спину, еще глубже вминая в размокшую землю. — Думаешь, государство будет за так кормить тебя и твоего выблядка?
Он схватил ее за шиворот, легко выдернул из грязи. Она с трудом удержалась на ногах. Крови видно не было — все лицо превратилось в грязную маску.
— Чего встала? Ты что, заслужила, чтобы прямо стоять? На колени! Вот так, и руки вытяни, выше, выше, к сияющему солнцу. Так, молодец. И стой, пока я не вернусь с обеда, — он обвел взглядом остальных, — смотрите, чтобы стояла не шелохнувшись, если пошевелится или, упаси Небеса, опустит руки — все останетесь без ужина.
Он ушел не оглядываясь, абсолютно уверенный в том, что его приказание будет выполнено безукоризненно. Она осталась стоять на коленях в размокшей земле, вытянув руки к палящему солнцу.
Женщины обессиленно уселись там же, где стояли. Некоторые легли прямо на мокрый грунт, закрыв глаза, им было уже все равно. Остальные не сводили с нее глаз. Сочувствия в их взглядах не было.
За происходящим наблюдал мальчик лет восьми. Его звали Чон Тэ Чжин. Наказанная женщина была его матерью.
Он не был напуган, его сердце не разрывалось от жалости. Эта сцена была для него в порядке вещей. Ему не пришло в голову подойти к матери и что-то сказать или сделать. Сделать что-либо он не имел права, а сказать ему было нечего.
Он родился в этом Лагере. Это был его дом. Он знал, что его родители — враги народа. В чем заключалась их вина, ему было неизвестно, а он и не задумывался об этом — это была данность, непреложная истина.
Чон не знал слова «мама». Была женщина, которая его кормила и рядом с которой он спал на полу, — она называлась «мать».
Ему было известно, что смыть позор своего вражеского происхождения он может кровью и потом, всю жизнь ударно работая там, куда его пошлют. Впрочем, Чон твердо знал, что он в этом Лагере умрет: для его обитателей выхода отсюда не было.
Его знания о жизни ограничивались периметром Лагеря — он был огромный, расположен в заснеженных горах, в узких долинах гнездились деревни, состоящие из одноэтажных бараков, в которых жили такие же враги народа всех возрастов. Встречались даже глубокие старики, лет сорока.
В Лагере были рисовые, кукурузные и пшеничные поля, угольные шахты, швейные мастерские, животноводческие фермы, цементный завод и железнодорожная станция.
Территория была окружена несколькими рядами колючей проволоки под высоким напряжением. Примерно через каждый километр располагались вышки с пулеметами, на которых дежурили солдаты с биноклями в руках. Пространство между вышками патрулировали охранники с собаками.
Какова была протяженность этой ограды, Чон не знал. Понятие «километр» ему было неизвестно. Просто она была такая длинная, что дух захватывало, и терялась где-то в горах. О том, чтобы подойти к ней близко, и речи быть не могло: охранники сразу открывали огонь и за каждого убитого в награду получали дополнительную порцию еды. Не приближаться к ограде — вот второе правило, которое усвоил Чон в своей жизни.
А правило номер один — в нерабочее время не собираться на территории больше двух. Это было его первое воспоминание в жизни: ему четыре года, мать работает на том же рисовом поле, он сидит в сторонке и перебирает камешки — его единственные в детстве игрушки. Внезапно все прекращают работу и собираются у столба, врытого в землю, предназначения которого он не знал. Охранники волокут мужчину со связанными руками. Чон испугался, что за спинами взрослых не увидит чего-то интересного, и ползком, между ног собравшихся пробрался в первый ряд.
Солдаты привязали извивающегося человека к столбу. Запихали в рот камни. Офицер охраны зачитал приговор: всего смысла Чон не уловил, он понял лишь, что привязанному предлагалось искупление через тяжкий труд, а тот не захотел. Потом охранники выстроились и произвели три залпа. Грохот испугал Чона, и он ничком упал на землю. Чья-то сильная рука подняла его за шиворот со словами: «Смотри прямо, щенок». Вокруг засмеялись. Он увидел, что привязанный обмяк, а по столбу стекает что-то серовато-розовое.
Потом мать тащила его за руку, а ухо горело от затрещины. Она сказала, чтобы он не смел падать от страха во время казней, не позорил ее перед людьми, ведь казнь — один из немногих случаев, когда им позволено собираться всем вместе.
Когда вернулся охранник со сросшимися бровями, мать все так же стояла на коленях с поднятыми руками. Ее взгляд застыл, лицо не выражало никаких чувств.
Охранник хлопнул в ладоши.
— Так, сучки, продолжаем работу. А ты, тварь, хорошо отдохнула? Чего уставилась? Давай, поднимайся, тебе еще двадцать метров догонять до выработки бригады.
Мать с трудом поднялась на негнущихся ногах, взяла в руки тяпку. До конца распрямиться так и не смогла. Минут через тридцать она молча осела на колени и уткнулась лицом в землю. Охранник подошел, ткнул сапогом, перевернул на спину и пальцем приоткрыл веко.
— Живучая, контра. Так, чего стоим, взяли эту падаль и отволокли в сторону.
Четверо работниц безмолвно взяли мать за руки и за ноги и отнесли в тень. Охранник повернулся к Чону.
— А ты чего рот раззявил? Быстро тяпку в руки — и давай выручай мамашу. Не будет нормы — не будет еды.
Вечером того же дня перед входом в барак мать Чона стояла на коленях перед бригадой. При некоторых женщинах были дети. Охранник расположился сбоку и, ухмыляясь, вертел в руке дубинку.
Для Чона это была стандартная процедура, ведь без этого нельзя — каждый вечер, перед ужином, бригада должна пройти сеанс критики и самокритики. Более того, это было одним из немногих доступных развлечений.
— Ну, рассказывай, какими успехами ты сегодня отличилась? — вкрадчиво спросил охранник.
Мать, бледная, опустила разбитое лицо, по которому текли слезы, и едва слышно прошептала: «Я не смогла выполнить норму».
— Не слышу, — он приложил руку к уху.
— Я не смогла выполнить норму, — громче произнесла она.
— Вы слышали? – охранник повернулся к бригаде. — Она не смогла! Что значит — не смогла? Все смогли, а ты нет?
Мать опустила голову еще ниже, промолчала.
— Ты не захотела! Жрать рада, как все, а работают пусть другие? И не отговаривайся болезнью. Кто здесь здоров, поднимите руку.
Женщины остались неподвижны, преданно смотрели на охранника, в лицах читалась готовность работать, невзирая ни на что.
— Вот видишь, — прорычал охранник, — здоровых здесь нет, но все готовы трудиться. — Он сделал паузу, вздохнул: — Что скажет коллектив?
Заговорили все разом, громко. В потоке отчаянных ругательств Чон уловил несколько осмысленных оборотов: «Несознательная дрянь», «Государство и Партия о ней заботятся, а она…», «Из-за таких, как ты, наша бригада станет отстающей», «Расстрелять мало».
Наконец охранник поднял руку, и все тут же смолкли.
— Ну, раз коллектив высказал свое мнение, пришла пора понести наказание. Будет карусель, строиться.
Чон прекрасно знал, что такое карусель, хотя и не понимал, откуда взялось это слово. Вопрос был только в том, сколько раз она прокрутится и каков будет окончательный вердикт.
— А ты чего встал, — обратился к нему охранник, — иди в конец очереди, и смотри, без хитростей, я слежу за тобой.
Женщины и дети выстроились друг за другом, и каждый по очереди подходил к наказуемой и наотмашь бил ее по лицу. Когда подошла очередь Чона, он изо всей силы нанес удар. Предупреждение охранника было излишним — норму выполнять надо просто потому, что надо. Если не хочешь остаться без еды.
Карусель провернулась четырежды. К концу экзекуции на лице матери не осталось живого места.
— Неделю на половинном пайке, — деловито произнес охранник, — всем разойтись.
По лагерным меркам они с матерью жили неплохо. Барак на сорок семей, у каждой своя комната, несколько общих кухонь. Поскольку в Лагере имелась своя угольная шахта, проблем с отоплением не было. В каждой кухне стояла печь, откуда, по корейской традиции, под полом шли отопительные каналы в соседние помещения.
Было даже электричество, два раза в день по часу, утром и вечером.
Что такое водопровод и проточная вода, он не знал, поэтому ежедневная беготня с ведрами и бидонами к колодцу не была ему в тягость. Так же спокойно Чон относился к отсутствию какой-либо мебели. О существовании кроватей, столов и стульев он просто не догадывался. Спали они прямо на бетонном полу комнаты, подстелив куски какой-то старой и рваной материи, к которой, по мнению матери, следовало относиться особенно бережно.
Самое острое и, возможно, единственное чувство, которое Чон испытывал в своей пока еще не длинной жизни, было чувство голода. Есть хотелось всегда, каждую минуту, каждую секунду, даже во сне, и он представить себе не мог, как это может быть — не хотеть есть.
Он знал три вида еды — кукурузная каша на воде, кукурузная лепешка и жидкая похлебка из соленой капусты.
Он не знал, что такое завтрак. Тогда ему и в голову не приходило, что поесть с утра — это нормально. Лишь спустя много лет он понял, что такой распорядок дня был единственно возможным: чтобы хоть как-то облегчить ночные муки голода и обеспечить хоть какой-то сон, мать кормила его только обедом и ужином. На завтрак их пайка не хватало.
Она вставала в четыре утра, разбуженная тусклым светом от единственной лампочки, свисающей с потолка. Выключателя не было, свет включался сам по себе, заменяя отсутствующие часы. Кутаясь в лохмотья, служившие им постельным бельем, она брела на общую кухню, чтобы на старой железной печке приготовить будущий обед.
Потом она приносила две жестяных плошки с кашей и миску с капустной похлебкой и ставила их на пол в углу. Он раздувал ноздри, с жадностью втягивая запах, а она смотрела на него ничего не выражающим взглядом, молча, но энергично грозила пальцем и уходила на работу.
А он оставался наедине с пыткой — еда была рядом, только руку протяни, но это было категорически запрещено.
Вся его жизнь состояла из запретов, слово «можно» ему было неизвестно. Нельзя приглашать в комнату соседских мальчишек, нельзя смотреть в глаза охранникам, никому, кроме матери, да и то только с глазу на глаз, нельзя задавать никаких вопросов, нельзя притрагиваться к еде, пока она не придет на перерыв.
Вот это было самое трудное. Временами чувство голода пересиливало ужас перед последствиями, и он набрасывался на еду, съедая не только свою порцию, но и ее.
Когда она возвращалась и не обнаруживала пищи, то набрасывалась на него с кулаками.
— Ты, безмозглый щенок, — орала она, не разбирая, куда наносит удары, — ты оставил меня без еды! Знаешь, что это значит? У меня не будет сил выполнить норму, меня накажут, нас оставят без пайки, а тогда завтра я снова не выполню норму, и ты, ублюдок, подохнешь с голоду.
Смутно он понимал, что мать права, но голод раз за разом оказывался сильнее, и тогда она стала таскать его в поле за собой.
Чон никогда не задумывался, что значит для него мать. Измотанная в поле, она не находила в себе сил разговаривать с ним, лишь кратко давала поручения, например, сходить к колодцу за водой. Вечером они молча ели и ложились спать. Вместо пожелания хорошего сна она бормотала: «Не вертись, порвешь одеяло — убью».
Одно он знал точно: мать — источник еды и одновременно конкурент в борьбе за нее. Слова «любить» Чон не знал.
Охранника со сросшимися бровями звали Ким Ён Гук. В момент описываемых событий ему было двадцать лет. Все не осужденные мужчины в Северной Корее должны служить в армии десять лет — с семнадцати до двадцати семи. Тянуть лямку на голодной границе с Китаем или быть в постоянном напряжении на 38-й параллели считалось незавидной долей.
Ему несказанно повезло — попасть в лагерную охрану могли только счастливчики с безупречным классовым происхождением, семьи которых проверялись госбезопасностью до третьего колена.
В обычных войсках КНДР простой солдат никто — раб, пыль, одноразовый патрон. Совсем другое дело — войска лагерной охраны. Самый последний рядовой — далеко не нижнее звено в иерархии. Под ним — десятки и сотни ничтожных существ, которые находятся в полном его распоряжении.
Система «лагерей полного контроля», по-корейски Кван Ли Со, существует для содержания и постепенного умерщвления безнадежных классовых врагов. Никто, оказавшись там, не может выйти обратно. Попадают туда не по приговору суда, никаких «статей» не существует. Власти руководствуются постулатом Великого Вождя товарища Ким Ир Сена, согласно которому семя классовых врагов, фракционеров и контрреволюционеров должно быть уничтожено до третьего колена. Таким образом, в «клиенты» Кван Ли Со были автоматически записаны дети, внуки и вообще все близкие родственники тех, кто бежал на Юг, или чем-то не угодил Партии, или имел «неподходящую» родословную.
«Лагеря полного контроля» возникли в первые же годы существования народно-демократической Кореи и с тех пор действуют безупречно. Там ни разу не было бунта, а все попытки побега заканчивались одним — или смертью на «периметре», или публичным расстрелом.
С первых дней службы в лагерной охране Ким усвоил главное правило, следуя которому можно было избежать неприятностей и даже сделать карьеру: надо не видеть в заключенных людей.
На первом же инструктаже пожилой офицер в высокой фуражке и с изъеденным глубокими морщинами лицом рявкал фразами, как пулеметными очередями:
— Товарищи воины! Здесь нет линии фронта! Враг повсюду! В каждом бараке! На каждой ферме! В каждом поле! Женщины! Старики! Дети! Все! Вы должны быть безжалостны! Жалость к врагу есть контрреволюция! Тот, кто ее проявит, сам станет заключенным!
Их учили ненавидеть, им объясняли, что бить заключенного — это не просто нормально, это признак революционной сознательности. Им прямо объявили, что смерть заключенного на производстве не должна их расстраивать — это не повлечет для них никаких последствий. И наоборот, любой случай даже малейшего неповиновения зэка, оставшийся безнаказанным, будет означать приговор для тех, кто его не наказал. Они были вправе сами принимать решение, как наказывать. Командование намекнуло, что будет только приветствовать творческий подход к этому вопросу. Они были вправе решать, стрелять или не стрелять, и им дали понять, что если есть сомнение, то лучше выстрелить.
Семнадцатилетние мальчишки, попав в лагерную охрану, получали неограниченную власть над людьми.
Вскоре Ким усвоил и некоторые дополнительные, неформальные преимущества своего положения.
При случае у заключенного можно было отобрать еду, и это было актуально, поскольку даже в привилегированных войсках жизнь была далеко не сытной.
Сексуальные контакты с женщинами-зэчками были формально запрещены как не соответствующие революционной сознательности, но начальство закрывало на это глаза при соблюдении одного условия — никаких чувств. За мелкие поблажки и скудные продуктовые подачки, а еще чаще просто под воздействием угроз эти несчастные скелеты в лохмотьях, в которых только с помощью очень большого воображения можно было разглядеть женщин, безропотно соглашались на близость.
Для людей, которым суждено десять лет провести в казармах, эта привилегия была очень существенной.
Хотя и зэчки, и охранники прекрасно знали, чем это кончается. Для забеременевшей, в зависимости от вкусов отрядного начальства, было три пути: или бесследное исчезновение, или принудительный аборт в полевых условиях, или присутствие при убийстве своего новорожденного младенца.
Партия никогда бы не допустила появления нового поколения классовых врагов.
У женщин выбора не было. Охранников последствия не смущали.
Служить в охране Киму нравилось. Благодаря искренней ненависти к заключенным и творческому подходу в вопросах наказания, то есть качествам, которыми нелегко было выделиться в их среде, он быстро прошел первые четыре ступеньки солдатской карьеры (рядовой, младший ефрейтор, ефрейтор, старший ефрейтор) и дослужился до звания «младший сержант».
Теперь его полномочия расширились, он командовал отделением из восьми солдат, а продовольственный паек стал заметно тяжелее.
Теперь он мог безгранично наслаждаться жизнью, но была у него страшная тайна, которая вытягивала из него все душевные силы.