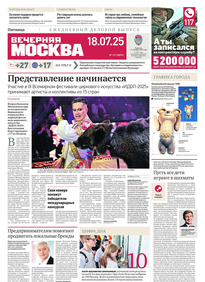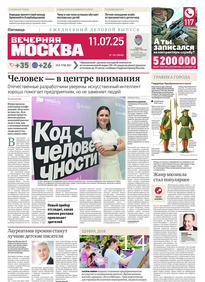Пандемия стала главной темой неспокойного 2020 года. О коронавирусе и его последствиях говорят все. Не остались в стороне и литераторы. В рамках рубрики «Писатель в газете» мы публикуем отрывок из рассказа прозаика, директора издательства «Художественная литература» Георгия Пряхина. Он побывал в «красной зоне» и рассказал о месте, куда попадать не посоветуешь никому.
Она даже не появилась — она проявилась в темном дверном проеме, как проявляется негатив. Нет. На подлинных старинных, уже черненных временем иконных досках. Мне нравится у Даля: «из одного дерева икона и лопата», и я бы добавил: и старая, натруженная человеческая ладонь, — изображения кажутся не нанесенными извне, даже самой искушенной мастерской рукой, а проступившими изнутри. Как на бязевой нательной сорочке молодой матери проступает солнечное молозивное пятно. Настоящие иконы почему-то всегда выпуклы, не отвесны, как будто их делают из мореных плашек, первоначально предназначенных даже не для лопат, а для пузатых деревянных кадушек. Увидел ее краем глаза. Знаю точно, что дверь в мою комнату была закрыта. В комнате темно, насколько темно может быть ночами в квартирах современных бессонных, в электрических сполохах, многомиллионных роевых городов. Я не в бреду — это тоже знаю точно, поскольку даже в самые кризисные ночи моей болезни температура у меня не поднималась выше 38,5. Я один, ухаживающую за мной младшую дочь сморило в соседней спальне. Я, повторяю, в здравом, пока еще в здравом, рассудке. Дверь закрыта — раньше они у нас были светлые, но сейчас, после ремонта, жена поменяла все их, в том числе и колер, на темный, псевдомореный, если и не церковный, то — монастырский, мужского монастыря. Монастырь по виду мужской, хотя состав его преимущественно женский — из мужчин я тут чаще один. И вот перед этой закрытой тяжелой дверью — или прямо на этой двери? — проявилась, проступила молозивом, моя мать. Вошла. Пропиталась. Которой нет на белом свете уже ровно пятьдесят девять лет. И которая давным-давно уже даже не снилась мне, разве что изредка-изредка отдельными родными, вдруг возникающими в памяти чертами. Во сне, а чаще наяву — в моих промелькнувших вдруг, узнанных чертах дочерей, из которых больше всех похожа на мою мать, на свою бабку, опять же младшая. А тут, в третьем часу ночи, явилась. Вся, целокупно, в дверном проеме — как в горсти. Дальше своего райцентра при жизни не отлучавшаяся, не то что с кладбища, пропеченного нашими степными суховеями не на два положенных человечеству метра, а до самого пупка, до преисподней, откуда даже беспомощно искрящим слюдяными крылышками кузнечикам взлететь невмочь: только неистово молятся вместе с зелеными, марсианскими богомолами и в бурьянах, и в полыни.
Резкости, конечно, нету, да православные иконы вообще как сквозь слезы писаны, но явственно узнаваема — до молотка в висках. Смуглое, опаленное солнцем курносое русское лицо — все Богородицы на Руси темнолики не в силу своей природной национальной принадлежности, а потому как просмолены до самых недр горьким медом и зноем обращенных к ним материнских русских молитв. Белый-белый миткалевый платочек «домиком», по случаю надетый выходной полушерстяной жакет в талию и, тоже выходная, плотная опрятная юбка в частую рябенькую клеточку… Господи, я до рези в виске узнал, вспомнил этот ее наряд: ничего праздничнее, выходнее у нее отродясь не было. Принарядилась — как на чужую свадьбу: своей у нее тоже никогда не было. Матери не стало, когда мне было четырнадцать лет, но Бог ты мой, я, кажется, видел эти ее одежды, покрова ее не только в детстве-отрочестве, но и значительно позже. Разношенные, как с чужого плеча — при невеликом росточке ее — неутомимые руки на сей раз поразительно свободны. Смутно? Отрешенно. Строго? Скорее, все-таки строго взглянула она на меня. Как на непоправимо виноватого. Мне тогда было четырнадцать, а ей-то, ей — всего сорок пять! И кто же тогда виноватее перед нами обоими: жизнь или же смерть? Миг, всего миг — и по черноиконной доске прошел безмолвный скипидарный смыв. Я крепко, как в детстве, вздрогнул и понял: надо соглашаться на больницу — мать велит.
<...>
— Владимир Иванович? Привет… Это я… С даюсь…
— Ну привет!.. Я тебе еще вчера говорил: пусть срочно волокут к нам. В приемном покое тебя уже ждут, я заранее, загодя дал команду. И я стал уныло, обреченно, истекая холодным потом, собираться в больницу. Собиралась, собственно, дочь: складывала мне, вздрагивая ресницами, «тревожную» сумку, время от времени вопросительно вскидывала на меня уже распускающийся, как известь, к утру графитовый, с алмазною искрою прах своих глаз, и я понуро и согласно кивал головой. Впрочем, в какой-то момент и сам принял участие в сборах: подошел к одному из книжных шкафов и стал прикидывать, превозмогая едкий чад в голове, что взять в больницу? Почитать — так свято верил не то в отечественную, крепко подмоченную, обскубленную медицину, не то прямиком во Владимира Ивановича, человека, которого даже другом не назвать, ничем мне не обязанного, никак мною не отблагодаренного и не облагодетельствованного, но стольких уже спокойно, буднично, как-то покрестьянски, а не по-эскулапски лечившего и, что важнее, вылечившего из моих родичей. И вот просил-просил за других, за кровных, единокровных и не совсем, которым и сам всю жизнь был целительной защитою, а очередь грянула вдруг и мне самому… Остановился почему-то на Мандельштаме. Я люблю Мандельштама, не знаю никого талантливее, камнеломнее: Державин новейших времен. Вначале попался сдвоенный том, третий-четвертый. Механически полистал страницы. Письма. Читать в больнице чужие, даже Мандельштама, письма? Мысленно — физически натурально не хватало сил — пожал плечами. Том второй: проза и переводы. Его проза еще разительнее, стихийнее, чем его стихи. Взял. Опять же автоматически, без сил скользнув по шершавым страницам. Маленькая, в половину моей серьезной ладони, старая-старая, подклеенная скотчем на уже образовавшемся ломком изгибе фотокарточка выпала, рыбкой, мальком выскользнула вдруг из тома. А ведь он — не писем, не эпистолярий. Как же не писем? Нагнулся — до окончательного помрачения в глазах, подобрал. Господи, последний раз я ведь эту карточку видал лет пятнадцать назад. Назад. А после не раз мельком вспоминал о ней и даже искал ее, но она как в воду — мертвую? — канула. Запропастилась, и я с годами, хотя сам же когда-то и неуклюже подклеивал ее, забыл о ней. Заспал. Как она попала — закладочкой — в Мандельштамовский многотомник? Чудом? Моя никольская родня в рясно, оглушительно, даже на черно-белом, любительском — и не потому ли, что на черно-белом и любительском? — цветущем саду бабушки Меланьи. Свадьба, да, свадьба, женят старшего из ее, бабушки, многочисленных сыновей. Михаила. Стоят тесно и почему-то еще трезво под цветущими перистыми облаками яблонь и груш, и у каждого и каждой в петличке, или просто на лацкане, или просто прямо на воротнике веточка, гроздь, цветущее жар-птицыно перышко, из этих самых облаков выщипанное. Каждый, а не только деревянно-чопорный, непривычный Михаил и его невеста Анна Залукаева, вся в белом, еще более белоснежная, чем груша — а может, судя по животу, она и есть самая роскошная и плодоносная груша в этом редкостном для наших суховейных и ссыльных мест бабушки Меланьином райском саду. Каждый и каждая, даже мама моя, она здесь все же двоюродная, — как жених и невеста. А перед теми, кто не поместился в ряд, кто сидит, полулежит в ногах у брачующихся — тут и любимый мой дядька Иван — красуется прямо на травке журавлиногорлая темного стекла бутылка. Непочатая, хотя стаканчики цыплятками сгрудились вокруг нее. Непочатая! — потому и трезвые все, а не только женщины. На карточку, сделанную каким-то деревенским умельцем, просочились и детки. Будущие, завтрашние — в невестином, заметно сгорбившемся, подошедшем, животе.
А эти, чужие, вездесущие — вот они: пялятся прямо в меня. Я был на этой свадьбе, я ее хорошо помню, мама меня тоже брала с собой к родне. Судя по тому, что у худенькой мамы моей тоже наметился, обозначился непривычный для нее живот, этот май — пятьдесят второго. Потому что именно в пятьдесят втором, в декабре, родился мой брат Николай. Стало быть, и невестин, Анны, будущий сыночек, и даже мой брательник на карточке присутствуют, обозначились, а вот меня, черт подери, как и незабвенной бабушки моей, — нету. Бабушки нет, видимо, потому что занята более неотложными, чем фотосессия, хлопотами на кухне. А вот почему нету меня, я знаю, помню точно. Потому что мне деревенский, только что демобилизованный из армии парняга-шофер, возивший в сельсовет жениха и невесту, разрешил посидеть одному в кабинке его грузовика. Какое там фотографирование! Мне так редко выпадало счастье крутить, хотя бы оставаясь на месте, вороненую, лоснящуюся баранку, дотягиваться сандалией до педалей и вдыхать волшебную вонь тавота, бензина и нагретого чужими задницами кожзаменителя… Не могу оторваться от фотки. Подношу к самым глазам — не только в голове, но даже в них, в глазах моих измученных, мал-мал прояснилось. Боже мой, моя молодая еще, скромно притулившаяся к писаной красавице Лиде, своей двоюродной сестре, родной дочери материной тетки Меланьи, мама в том самом платочке домиком, в том самом «выходном» полушерстяном жакете в талию и в той самой плотной красиво удлиненной клетчатой юбке, в которых и явилась она строго только что в моем дверном проеме! Помню ли я все эти пятнадцать лет досконально эту затерявшуюся карточку? Наверное. Свадьбу же помню в подробностях. Пятьдесят второй. Мне пять лет. У нас с мамой впереди девять совместных лет, почти вечность. Сейчас мне семьдесят три. Похоже, это не я ее вспомнил. Это она затревожилась.
<...>
Первый день, первая ночь в стародевическом глазированном комодике с окном на больничный двор, по которому задумчиво, как сталкерши, в своих пугающих антирадиационных комбинезонах и в скафандрах бродят все те же сестрички, либо осторожно неся, как младенцевсосунков на груди, какие-то колбы-реторты, либо толкая перед собой такие же, на каком пребывал и я, да и с таким же сомлевшим грузом, кресла, а то и просто каталки, уже наглухо зашторенные простыней. Сигнальный прожектор далекого высотного подъемного крана, тоже как фельдшер-стажер, пытался обследовать и комнатушку, и меня лично, прямо до дна. Да я и не возражал: у меня, как и у него, тоже бессонница — и от лекарств, в которых, видимо, прорва мочегонных, и от раздумий. Где я мог поймать? Или — где меня поймало?
<...>
Жизнь — драгоценный неотъемлемый дар… Который так неистово в эти дни отнимают друг у друга два извечных соседа-народа… В самом начале этой войны оттуда, с Кавказа, мне пришло предложение написать свое мнение о ней, о случившемся. Написал. Отослал. Но ни та сторона, ни другая не напечатали. Не устроило. …На контрольное КТ нас вызвали двоих, меня и еще одного пациента, тоже в годах. Его повезли в кресле-каталке, в каковом несколько дней назад рассекал и я, я же от кресла отказался, и на сей раз мне позволили, доверили топать на своих двоих. Опять саркофаг. Опять репетиция. Того и гляди прозвучит обратный отсчет: «10, 9… 1… 0… Пуск!» Отлет.
Нет. Вылет, похоже, на сей раз откладывается. Опять сижу над Осипом Эмильевичем, хотя глаза уже смотрят куда-то и сквозь страницы, даже сквозь них, высматривают здесь же, в сдвоенном третьем-четвертом томе нежно запрятанную, как тоже заветное, золотое, тоже черно-белое мандельштамовское слово, фотокарточку. Платочек домиком и веточка, гроздь цветущей майской яблони в петлице выходного ж акетика. И тут, тоже как из книги, из двери появляется, выскальзывает — или вскальзывает? — синичка. Заведующая. Вскакиваю, потому что даже через скафандр в ясных-ясных угадываю: вылет действительно откладывается! — Выбирайте: могу выписать завтра, в субботу, а могу в понедельник. Конечно, завтра, а еще лучше бы — вообще сегодня, сию минуту. — Я поняла, до понедельника ждать не хотите. Согласно и яростно киваю головой. — Благодарите свой организм. Он очень хорошо откликнулся на лечение. На наше лечение, — все-таки сделала акцент на местоимении. — Организм у вас еще справный… Так и сказала: не исправный, а почти понашенски, по-никольски: справный. В этот момент и выскользнула, тоже как выпорхнула, легонькая, с почти истлевшими от времени полупрозрачными крылышками моя заветная карточка. Охранная грамотка: белый крестьянский платочек, жакет и новая, едва ли не в первый раз надеванная клетчатая, удлиненная, как сказали бы сейчас мои дочери, «карандашом», юбка. Теперь я ее уже не потеряю. Никогда. Впрочем, пускай так и живет себе в Мандельштаме. Это и тоже вполне достойная, стихийная проза. Живет письмецом, паролем. До поры до времени. 18 октября — 9 ноября 2020 года